Марина ЛИТВИНОВА. Из «Воспоминаний»
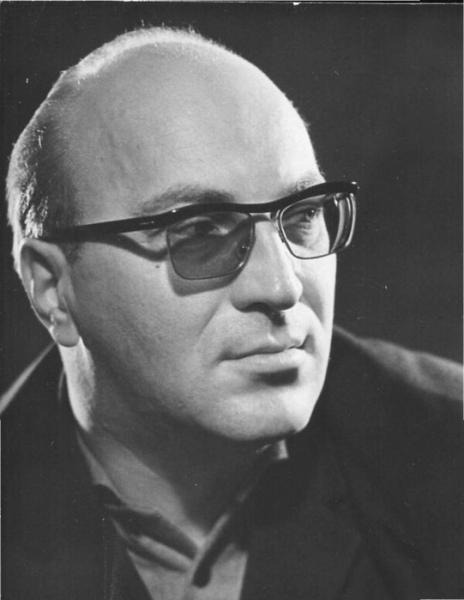
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Сергей Есенин
«Произведения всех авторов автобиографичны, автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т. д. — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен был пережить сам».
«Материалы для жизни художника одни: его произведения. Будь он музыкант, стихотворец, живописец — в них найдете его дух, его характер, его физиономию, в них найдете даже те происшествия, которые ускользнули от метрического пера историков...»
В.Ф. Одоевский
«Полдень» публикует предисловие, первую и третью главы из книги Марины Литвиновой «Воспоминания».
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Самое недостоверное — исповедь человека. Достоверно только «непрямое высказывание», где не может быть ни умолчаний по стыдливости, ни рисовки «поднимай выше». И самое достоверное в таком высказывании то, что неосознанно, что напархивает из ничего, без основания и беспричинно, а это то самое, что определяется словом «сочиняет», — писал Алексей Ремизов в книге о Гоголе «Огонь вещей» (глава «Хвостики»). Скажу другими словами: исповедь, воспоминания — недостоверны, зато в романах, рассказах — «непрямых высказываниях» — всегда найдутся отзвуки событий из жизни автора, о которых он никогда не решился бы упомянуть в автобиографии или мемуарах. Написанное мной — не исповедь, а воспоминания. Но и воспоминания не достоверны. И в них есть «умолчания по стыдливости», от этого не уйти, но поползновений на рисовку у меня нет. Когда-то мне хотелось написать роман, в основу которого легли бы пять лет жизни и странствий с Юрием Павловичем Казаковым (июнь 1960 — июнь 1965). Но эту мысль я отвергла. Мне хочется до конца осознать те далекие годы, они были важны и в моей и в его жизни.
Юрий Казаков написал тогда несколько лучших своих вещей: «Осень в дубовых лесах» о нашей жизни под Тарусой летом 1960 года (об этом он несколько раз упоминал в своих письмах — в 1964 году в письме из Алма-Аты, и в письме 13 июня 1970 года из Киева), «Двое в декабре», «Нестор и Кир», часть «Северного дневника». Были еще написаны «Зависть», «Адам и Ева», «Проклятый Север», «Плачу и рыдаю», детские рассказы и многое другое. Можно сказать, это был самый плодотворный период во всей его творческой жизни. За следующие семнадцать лет написаны восемь рассказов, так он называл и свои рассказы, и очерки. Среди них два потрясающих, посвященных сыну Алёше — «Свечечка» (1973) и «Во сне ты горько плакал» (1977), большой очерк о Тыко Вылке. Еще несколько прекрасных очерков-рассказов для «Северного дневника», включая «Мужество писателя», написанных во вторую половину шестидесятых годов. И удивительный, поздний рассказ-аллегория «Розовые туфли». Последние десять лет он многое начинал и бросал.
Мои достижения за те пять лет были иного свойства. Перевела два романа, несколько рассказов, сочинила полдюжины собственных рассказов. Конечно, копился опыт словесного творчества. Но, главное, — из пустоголового романтика превратилась в романтика думающего. Спустилась с небес на землю, к счастью, не потеряв связи с небом.
Через год после нашего разрыва и у меня начался новый этап, который длится и по сию пору. Я вышла замуж за физика младше меня на четырнадцать лет, вернулась преподавать в мой институт, родила дочь. Много ездила, добралась даже до Гавайских островов. Занялась изучением Шекспировского вопроса, жизнью Фрэнсиса Бэкона и графа Ратленда, что Юрой было категорически запрещено. «Или я или Шекспир» — сказал он ранней весной 1963 года. Перевела несколько хороших книг и написала свою — «Оправдание Шекспира», которая писалась двадцать лет и вышла в 2008 г.
Есть и ещё одна причина, почему пишутся эти воспоминания. Пять лет наших с Юрой странствий были для него переходным периодом. От бедной, в какой-то мере скитальческой жизни к обеспеченной, материально и семейно устроенной. Большие деньги принес роман Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот», первую часть которого Юра переводил, когда мы жили зиму 1964-1965 года в Алма-Ате, сначала в доме отдыха ЦК компартии Казахстана, а потом в санатории Совета Министров, на берегу горной речки Алматинки, немного ниже известного высокогорного катка Медео. Я туда прилетела накануне Нового года, спустя какое-то время приехала мать Юры Устинья Андреевна. И мы уже втроем прожили там январь и февраль. А через три с половиной месяца мы с Юрой расстались. После чего довольно скоро у него началась совсем другая, стабильная, семейная, жизнь.
Он женился, купил дом в Абрамцево, родился сынок Алёша. Вся его дальнейшая судьба хорошо просматривается, где бывал, с кем ездил, есть документы, есть описания его дома, там бывали писатель Домбровский с женой Кларой и другие известные люди, о своих поездках заграницу он писал сам. А пять предшествующих, самых плодотворных, лет — темное пятно. Это и были те пять лет, когда мы с Юрой странствовали по России. И, наверное, только я одна знаю, как Юра жил и писал в самые творческие по насыщенности годы.
Литературный критик Игорь Сергеевич Кузьмичев пишет в книге «Юрий Казаков: Набросок портрета»: «Когда Казаков обрел долгожданный свой приют в Абрамцеве, шестидесятые годы шли к закату, — а именно они, эти годы, в особенности первая их половина, стали периодом расцвета и блистательного самоосуществления казаковского таланта. За короткое время, всего за пятьсемьлет, Казаков написал большинство своих известных рассказов, и его имя приобрело такую притягательную силу в литературных кругах, что позже критикам казалось, будто и все-то его творчество — лишь один порыв, одно мгновенное и мощное усилие, не получившее затем обещанного завершения». (Л.: Сов. писатель, 1986, с. 118)
В. Турбин, например, после смерти Казакова утверждал: «Казаков был человеком первого шага, дебюта... Творчество Казакова — дебют, длившийся несколько лет. Он перестал писать? Замолчал? Смею думать: он замолчал потому, что весь он выложился в дебюте, в шестидесятых годах — годах отличных литературных и социальных дебютов, начал, начинаний, которые не всегда, далеко не всегда находили столь же яркое продолжение». (Послесловие к посмертному изданию рассказов «Юрий Казаков. Рассказы», изд. «Известия», Москва, 1983 г., с. 474).
Вот так судят маститые литературоведы о творческом пути писателя: весь выложился в дебюте в те годы, когда в стране полно всяких дебютов, начинаний, и они не всегда получали яркое продолжение. Это или от нежелания, или от непонимания того, что жизнь писателя, как говорил Г ер- цен, — самая лучшая иллюстрация к его произведениям. Вникните в ежедневное, ежечасное бытие автора, во всей его переплетениях, только это может объяснить всю уникальность развития его творческой судьбы.
В интервью журналу «Вопросы литературы» (1979. № 2) Юра сказал: «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой, думаю все время, как я когда-то одиноко ездил, никому не известный, никем не любимый... Чем не жизнь? Хочу ехать на пароходе. Можно бродить ночью по палубе. Говорить с вахтенными матросами, слушать машину. Можно проснуться на рассвете от тишины, — потому что стоишь возле пристани у какой-нибудь деревеньки, — и жадно увидеть и увести с собой какую-то милую подробность. Чтобы потом вспомнить». («Две ночи», М., «Современник», 1985 г., с. 329-330). Но он никогда одиноко не ездил. А если окажется один, шлет телеграмму — немедленно приезжай. Вот его письмо из Киева 13 июня 1970 года, канун моего дня рождения:
«Ну вот, милая здравствуй. Приближается и ударяет твой день рождения. Я бы и не стал об этом говорить, ибо, как я понимаю, ты меня забыла прочно, но в одном твоем письме была приписка «пиши» — вот я пишу.
Итак, десять лет! Господи, как подумаешь, какой срок! Сколько людей перемерло, родилось и стало уж школьниками с того дня — помнишь? — с того жаркого душного дня в самом начале июня, когда все у нас пошло поехало. А какой был день! Какой, в обгцем-то горький день — умер затравленный Б.Л.[Пастернак], и мы, как-то стыдясь, съехались в Переделкино, как ты вызвалась провожать, как я выпил пива и мне совсем стало нехорошо, как я почувствовал, что в такой день невмоготу мне оставаться одному, как мы схватили такси, купили бутылку коньяку и помчались в Голицыне и гроза прошла, принеся облегчение — помнишь?
Всё-таки, как я теперь думаю, не зря свела нас судьба, много было хорошего всё-таки у нас. Плохое — оно мелкое, и это плохое, так сказать, принадлежит всем, случается у всех — ну разозлился, ну поклялся не встречаться и т.д., а хорошее, которого было много, было только у нас, только у тебя и у меня, только у нас с тобой! Ну скажи на милость, с кем бы ты, к кому бы помчалась в Таллин, в Крым, в Кемь, в Мурманск, в Печоры, в Алма-Ату?
Какая география! И еще есть Вилково и Таруса. А еще если пойти вглубь, есть Романовка, наша палатка на берегу Таруски, костерок, дымок... А?
И вот уже десять лет прошло и твой маленький сынок уже студент! Боже мой!
И ведь есть же Марфино, ведь я день за днем могу восстановить нашу тогдашнюю жизнь, ежеутренние наши походы за водой к роднику, первое в моей жизни отдельное житье. Помнишь этот внутренний дворик, где я рубил хворост, а в один прекрасный день зарубил курицу? Помнишь ли ты совершенно волшебное ощущения лёгкости, счастья, обособленности от всего остального мира, помнишь ли ты то счастье, которое охватывало тебя, когда ты шла за водкой в Трубецкое ? Счастье не оттого, что шла за водкой, а оттого, что с дороги видны были потрясающие дали, осенние холмы с зелеными озимыми и оранжевыми лесами. Помнишь наши разговоры о Ганди? Неужто ты все это забыла? Почему же ты так уж гордо заявляешь мне, что не хочешь уподобляться нагибинским женам — да разве я тебе это предлагал? Разве я, говоря о том, что нагибинские жены встречаются, предлагал тебе встретиться с моей теперешней женой ? Нет же!
А просто я думал, почему бы нам с тобой не повидаться? Ну почему? У тебя ребёнок и у меня, ты замужем, я женат. Что ж дурного, если мы повидались бы? Я же не зову, например, тебя приехать в Киев, как в былые времена. Но хоть раз в год нам с тобой было бы хорошо встретиться.
Я тут сижу, пишу сценарий по «Гол. и зеленому» для киностудии Довженко. Из окна моего номера видны Владимирский собор и Киево-Печерская лавра. Странно глядеть на них и думать, что все, что было христианского у нас на Руси — было после Киева.
Знаешь, во мне есть одно хорошее качество, может быть всё остальное плохое, но одно-то хорошее есть: я не забываю счастливых дней и мест, где счастье меня посетило. И этой весной отправился я в Поленово глядеть на небывалый, великий разлив реки. Не скрою, была у меня мысль позвонить тебе, пригласить разделить эту радость, но потом я решил, что ты наверняка откажешься, и поехал с мамой. Ещё поехал с нами Ю.Б. Горбатов — он тебя помнит, он был частым гостем Мих Мих. (мы оба были на похоронах М.М.). Так вот, чтобы не томить тебя, сразу скажу: вода в Тарусе поднялась так высоко, что плавали на лодках по площади, причаливали к торговым рядам и к госбанку, ну и к гостинце! Знаешь, в Тарусе наверное плохо жить — разные бытовые неудобства и проч. — но приехать туда на два-три дня — наслаждение!
Стоит взойти только на Воскресенскую горку и глянуть направо и налево, чтобы душа твоя воспарила. И я поеду в конце июня туда, доберусь, между прочим, и до места, где мы с тобой жили не тужили — на берегу Таруски — не в Романовке, а выше, возле Ям-Крестов. Помнишь там ездила раз в день на телеге с молоком одна прекрасная фея и наливала нам молоко бесплатно? Последний раз я был там с Васей Росляковым (крестным моего Алёшки) в 67 году и опять было безмолвно, и опять раз в день глухо стучала ее телега по корням и мы бежали встречать её, пили молоко и с полным бидончиком шли к себе. А костёр наш горел точно на том месте, где горел он в 61 году и позднее, и палатка стояла на том же месте, и так же свечками стояли лесные фиалки, а по ночам мерцали светляки. И я иногда поплакивал от избытка чувств.
А ты знаешь, что по «Осени» делают постановку на телевидении? Ведь это наша осень. Ведь это я тебя встречал десять лет назад, и зажигал фонарь и дрожал от предстоящего счастья.
Чувствую, что если продолжать письмо, то можно писать все дни, отведенные мне на сценарий, а поэтому закругляюсь, но м. б. ещё напишу отсюда [не написал]. Кланяйся твоим маме и папе. Напиши мне в Абрамцево [не написала]. Ире и Мише привет. А я тебя люблю и да хранит тебя господь!
Киев 13 июня 1970».
[Орфография и пунктуация Ю. Казакова]
Перечитываю это письмо через сорок лет — 4 сентября, 2010 год, — и щемит сердце. Как могли мы не сберечь такую прекрасную жизнь? Не ценили ее, что ли? Перечитала еще раз, через год, темным, теплым августовским вечером 2011 года. И обратила внимание на строчку, которая как-то ускользала от моего внимания: «Ну скажи на милость, с кем бы ты, к кому бы помчалась в Таллин, в Крым, в Кемь, в Мурманск, в Печоры, в Алма-Ату? » и сравниваю со словами «Люблю свой дом в Абрамцеве, но и жалею, жалею, что купил когда-то, очень держит дом — ремонты всякие, — не стало прежней легкости, когда за полдня собрался и был таков! Хочу на Валдай! Хочу опять стать бродягой...». Такими бродягами мы были четыре с половиной года, до жизни в Алма-Ате.
И вот передо мной последнее письмо, Виктору Конецкому, взятое из книги И.С. Кузьмичева, биографа Ю.П. Казакова.
«Дорогой Виктор! Лежу я себе на койке в госпитале, думаю невеселую думу, — и вдруг прекрасная девица вкатывает в палату столик на колесиках, столик с книгами и журналами. Предлагает то и это. И вдруг говорит: вы писателя Конецкого знаете? вот возьмите новую его повесть в журнале «Звезда»...
Ну, я взял.
А лежу я, брат, товарищ и друг, в центральном военном госпитале по поводу диабета и отнимания ног. За окном то туман, то дождик, то снег выпадет, то растает — чудесно! Я себя за последние лет шесть так воспитал, что мне всякая погода и всякое время года хороши, одеться только нужно соответственно. Конечно, ноябрь проклянешь, — выгони тебя на улицу босого и без штанов, а если потеплее одеться, то счастье и счастье.
Вот только этим я теперь и утешаюсь, сидя возле батареи в кресле и глядя на туман и снег. А вообще-то настроение — хуже некуда. Диабет ведь пожизненная болезнь, а тут еще ноги болят и дергаются в судорогах и немеют, и в весе теряешь и проч. прелести. Лечат меня тут всяко, аппаратура самая лучшая, заграничная, да толку пока мало, единственно, что больницу совсем не напоминает, а похоже на санаторий, только что в палате не курю, выхожу вон.
Жалко мне бесконечно тебя, да и себя, что не приехал ты ко мне на дачу! Славно бы поработали, очень для этого все было готово: и природа, и тишина в доме, отключенность ото всего...»
И дальше Казаков продолжал: «Надо, надо нам с тобой встретиться, поговорить надо, жизнь такая настает, что, во-первых, уже не в молодом задоре, как когда-то, а всерьез можем мы друг друга называть старыми хренами, того и гляди помрем, ну а, во-вторых, время нынче очень уж серьезное и надо бы нам всем, хоть напоследок, нравственно обняться... Хочется мне после больницы, если выберусь я отсюда подобру-поздорову, махнуть на срок-другой в Переделкино и тихо заняться литературой...»
«Пульс у меня в последнее время 120, давление 180/110, — делал приписку Казаков, — сегодня утром чуть сознание не потерял, говорят, спазм в мозгах, загрудинная боль схватывает раза 2 в день... Так что, на всякий случай, прощай, друг мой, не поминай лихом. Твой Ю. К.»
Спустя семь дней Казакова не стало. Ранним утром 29 ноября он скончался в госпитале от кровоизлияния в мозг.
Письмо Конецкого, спешно посланное ему в ответ, — письмо со словами: «Прекрасно и, как всегда у тебя, просто написал ты, что настает время, чтобы нам всем нравственно обняться», — вернулось обратно в Ленинград, не доставленное адресату.
«Тихо заняться литературой...» «Надо бы нам всем нравственно обняться...»
Об этом он думал перед смертью, в те последние дни, когда изнемог от терзания сердца своего поистине чрезмерно...
Смерть Казакова отозвалась скорбью, недоуменной досадой на судьбу, мало что добавив к разгадке его жизненной трагедии.
Даже для тех, кто был рядом, она оказалась неожиданной». (Кузми- чев, с. 135).
Сравниваю два письма. Загадка его жизненной трагедии. Не знаю, есть ли моя вина в том, что не получилось восстановить наших отношений после ссоры в Звенигороде в начале июня 1965 года. Хотя я пыталась. Осенью того же года Юра позвонил — есть разговор. Заехал за мной. И в Сокольниках, в просторном, пустом и холодном кафе — летний сезон давно кончился — сказал мне, что хочет жениться и перед ним выбор, который он должен сделать. Я говорю: «Юра, я согласна быть вместе, только с одним условием, надо лечиться от пьянства». На что Юра, усмехнувшись, ответил: «Вот ты как заговорила». На этом разговор кончился. У меня уже не было той ликующей, всё прощающей любви, а было чувство долга, ответственности. Я бы вернулась, но при одном условии — Юра должен перестать пить. Это была последняя наша встреча. Больше Юра не звонил, думаю, почувствовал, что той, прежней, любви во мне больше нет.
После нашей встречи в Сокольниках он скоро женился. Судя по письму правнука Толстого, которое Юра получил в Алма-Ате (Юра давал мне читать все его письма, я давала ему свои), его жена Тамара тоже очень, очень любила его. И была счастлива принять его таким, какой он есть на тот час его жизни. И, думаю, ее семейная жизнь была еще труднее моей.
В 60-м году Юра уже пил, но не так безобразно. Когда я поняла, наверное, в 1963 году, что это алкоголизм (отец Юры был запойный пьяница) , я пошла к главному психиатру Москвы (когда-то давала ему уроки английского языка), и он мне сказал: если есть хоть малейшее подозрение, что муж пьет, бейте во все колокола. И я поехала к Устинье Андреевне, его матери, надеясь найти поддержку. Она очень расстроилась, но ничего вразумительного не сказала. Юра тогда где-то путешествовал. Вернулся сначала на Арбат, потом ко мне, на Черняховского. И очень был сердит. «Ну, и чего ты добилась! Мать почти ослепла. Говорит, вот ты твердишь, она тебя любит, а она считает тебя алкоголиком. Мать и без того тебя еле выносит». Так и завершилась моя попытка побороть Юрино пристрастие к спиртному. И только в Алма-Ате Устинья Андреевна поняла, что дело плохо, и даже вынимала у него из кармана деньги. Когда мы с ней встретились после его смерти, я не удержалась и напомнила ей тот давний разговор, сказала, что надо было тогда безотлагательно Юру лечить. А она мне горестно ответила: «Знаешь, как трудно поверить матери, что сын пьет».
Сейчас Юрий Павлович становится мифом. И, как всегда, это уже не живой человек из плоти и крови, а некий мифический образ, таинственный, одинокий, безмерно талантливый и безмерно несчастный, который есть и будет материалом для написания работ о нем, для поклонения, создания легенд. Он, конечно, заслуживает восхвалений. Это был человек, наделенный боговдохновенным даром, унаследованным от предков. Но божьим ли промыслом, или по воле случая полный мощных соков побег вылез из коры не на том дереве, и не в ту эпоху.
Цель моих воспоминаний — показать в житейских подробностях, как жил и работал Юрий Казаков в те пять лет. Они, возможно, прольют свет на эту, еще одну трагическую судьбу писателя. Любовная драма и жизненная трагедия — вот содержание моих воспоминаний. Попытаюсь осознать, почему, по каким объективным и субъективным причинам Юрий Павлович Казаков, наделенный, по моему мнению, гениальным живописным писательским даром, фактически перестал писать рассказы к концу шестидесятых годов. (Только рождение сына всколыхнуло в нем великий творческий порыв, и он оставил нам еще два великолепных рассказа. Всего два за семнадцать лет, рассказ «Долгие крики» был задуман и начал писаться еще в первую половину шестидесятых. И где-то уже в самом конце аллегория — «Розовые туфли»). Любые мысли, эпизоды, островки природы, пейзаж, были и небылицы, словом все, что отпечатывалось в памяти и воображении, без натуги стекало с его пера в совершенной словесной форме. Были у него любимые эпитеты («нежный», «тугой»), любимые синтаксические конструкции (повторы). Но были еще и любимые мыслительные приемы. Описывая какое-то место точно и живописно, он любил перенестись от него за тысячи километров, погадать, что делают там люди — близкие и совсем далекие, заглянуть в седую старину, красочно поведав трогающую душу, достоверную историю. Или даже в лучезарное будущее — «Калевала» (1962 г.):
«Назад мы идем пешком по каменистой гряде. И когда поднимаемся, когда начинает овевать нас теплый, нежный ветер, когда кругом видна, кажется, вся страна с синими озерами, с нагромождениями камней и маленькими редкими деревеньками, — я думаю: придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, пустынности, на берегах озер возникнут стеклянные дома — тут ведь особенно любят свет! — и побегут шелковистые розовые и желтые и голубые дороги, и среди лесов будут краснеть острые черепичные крыши ферм, отелей и городов — тогда забудется многое, забудется бедность и приниженность избушек, бездорожье, одно не забудется — не забудется Калевала, выпеваемая старыми голосами и великий дух Вяйнемейнена, осеняющий эту прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь столетия». («Северный Дневник», с. 180-181). Это было написано весной 1962 года, вскоре после «Осени в дубовых лесах» и «Двое в декабре», когда Юра не был одинок, и мироощущение у него было светлое. Даже можно сказать оптимистичное, хотя это слово ко всему его творчеству мало подходит.
И еще не могу не сказать: русский язык Юрин не только красив, сочен, богат, — он везде русский, никаких влияний иностранного синтаксиса, никаких иностранных калек. В том числе и поэтому уже к началу шестидесятых годов проза Казакова считалась выдающимся явлением в русской художественной литературе.
В статье «Бесспорные и спорные мысли», опубликованной в «Литературной газете» в мае 1959 года накануне писательского съезда, Паустовский писал: «Особенно глубока, прозрачна и берет за сердце правдой и силой эта народная струя в рассказах Казакова и Никитина... Достаточно прочесть хотя бы два рассказа Казакова «Никишкины тайны» и «Арктур — гончий пес» и рассказ Сергея Никитина «Вкус желтой воды», чтобы прикоснуться к заветным источникам народной жизни и поэзии. Воздух огромной и любимой страны, дыхание изумительной нашей Родины струится из этих рассказов».
Тогда же прозу Казакова высоко оценили такие не похожие друг на друга именитые литераторы, как В. Шкловский, Ф. Панферов, И. Эрен- бург, М. Светлов. Ф. Панферову в августе 1959 года Казаков писал: «Вы по-настоящему помогли мне в самую мою злую, трудную минуту — и это не забудется. Мне особенно радостно, что рассказ [«Отщепенец»] все хвалят, меня поздравляют, и выходит, что я уже как-то отблагодарил Вас как редактора. Мне было бы хуже, если бы рассказа не заметили. И мне очень хочется принести Вам еще что-нибудь настоящее, хорошее, чтобы Вам понравилось, чтобы еще и еще оправдать Ваше доброе внимание ко мне...» (Цитирую по книге И. Кузьмичева.)
Американский философ Сантаяна писал, что современные европейские языки не обладают синтаксическими возможностями, как было с языками в античности, позволяющими писать поэтическую прозу, и посему писатели сейчас наполняют ее психологией. Это замечание точно относится к современной американской литературе. А вот проза Казакова поистине поэтична. Замошкин, как рассказывал Юра, самой большой помехой для него считал то, что ему слишком легко пишется. Он не испытывал сопротивления материала. Действительно, Юра садился за машинку (печатал он тогда двумя пальцами, указательными) и печатал безо всяких помарок. Отведет руки от клавиатуры, заведет глаза кверху, немного подумает и пишет дальше. И сразу начисто, никаких потуг писать красиво, точные по смыслу и благозвучию слова сами изливаются на бумагу. «Нет мук сильнее муки слова» — Юра этой муки в начале шестидесятых не знал. Я помню, как в Марфино, где он работал над «Северным дневником», ему в голову вдруг вступил сюжет детского рассказа «Красная птица». И он написал его за один день, не чувствуя сопротивления языка. У него было врожденное чувство прозаического ритма и абсолютного благозвучия, чувство словесной и структурной соразмерности. Такой был талант к словесному сочинительству.
Дело, наверное, все-таки не в «синтаксических возможностях языка», а в поэтических возможностях автора. Правда, язык тоже имеет какое-то значение, если говорить о современной американской литературе. У американской нации нет единого национального языка, уходящего корнями в прошлое, хранящего исторические — народные и литературные — лингвистические богатства, с помощью которых только и можно писать поэтическую прозу. Примеры такого языка — английский, французский, словом, все языки, на которых говорит не изготовленная в плавильном котле нация, а народ, объединенный не только территорией, а общей историей, языком, культурой (музыка, литература, живопись). У классика современной американской литературы, прекрасного романиста Джона Ирвинга в его психологических и гротескных романах нигде нет поэтического описания природы. И тут, наверное, дело в какой-то степени и в языке. Почему иностранцам так трудно ощутить красоту произведения, написанного на чужом языке? Мэри Хобсон, переводчица на английский язык Пушкина и Грибоедова, рассказывала мне, что один из ее знакомых, наслушавшись похвал Пушкину и выучив русский язык, почитал его стихотворения и не нашел в них ничего прекрасного. Ощутить красоту стиха, прозы может только лингвист, да и то, только тот, кто имеет специальную подготовку, для кого иностранный язык предстает во всей своей исторической полноте. А между тем, когда Пушкина читает русский, слышащий с рождения родной язык, выросший в среде, где говорят на богатом и чистом народном наречии, начитанный в русской классической и фольклорной литературе, то у него от красоты пушкинских строк захватывает дух. Американский вариант английского языка в устах американца, имеющего французский, голландские, немецкие, латиноамериканские корни, не может быть инструментом для создания истинно поэтического произведения, которое рождается, как рождаются песни певчих птиц. Язык должен быть родным до сотого поколения.
Возможно, в Юре проявился ген поэтической прозы, дремавший в его генетическом древе. «Позже, когда стал он признанным прозаиком, его художественная культура воспринималась порой как врожденная, наследственная, делались даже попытки объяснять ее «секретами» далекой казаковской родословной, — и в этом слышалось уже что-то от легенды», — пишет Кузьмичев в его литературной биографии (с.7). Мне Устинья Андреевна рассказывала о семейной легенде. Я ее помню, вот вкратце ее суть.
Предки Устиньи Андреевны были крепостные крестьяне князей Мещерских. Деревня была на Смоленщине. Миловидную крестьянскую девушку взяли в барский дом в качестве горничной. В доме был молодой князь, обрюхатил ее. И девицу выдали замуж за бедного поме- щика-однодворца. Устинья Андреевна была не то ее внучка, не то правнучка. Я слышала это из ее уст. А в роду князей Мещерских был ген литературной одаренности, один из князей по материнской линии был внуком Н.М. Карамзина. Среди князей были писатели — драматурги и романисты, поэтические переводчики. Хорошо было бы сравнить их портреты с Юриными фотографиями. Но и до сравнения можно сказать, что черты его лица, форма головы, маленький размер ноги при довольно высоком росте изобличали в нем породу. В его внешности ничего не было от простолюдина, он не был похож ни на мать, ни на отца.
Юра оттачивал природное дарование чтением русской классики — поэзии и прозы. Помню, мы прилетели в деревню Пялица на Терском берегу Белого моря. И сразу отправились в библиотеку. Большая пустая комната, на полу длинные книжные полки в три яруса, на них толстые журналы и русская современная и классическая литература. Мы взяли, оставив в залог три рубля, «Анну Каренину». Делать в деревне нечего (мы ждали самолета), и Юра стал читать мне этот роман, чуть- чуть заикаясь. Он был очень внимателен к слову, точному его значению. Любил Бунина, Чехова, Паустовского.
Но к ученым сочинениям его не тянуло, работа ума не прельщала. Почитайте Юрины статьи — в них глубокие мысли в прекрасной словесной оболочке. Но если вчитаться, то новых, неожиданных поворотов мысли нет нигде. Есть только блестящее изложение превосходных идей и чувств, высоко благородных, общечеловеческих, которые и прежде неоднократно высказывались, но никогда так красиво и чувствительно. Возьмите любой абзац из статьи «О мужестве писателя»: «Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так все зовет его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей выдуманной жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они все равно как будто живы, и он должен думать о них, как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления — те, которые были и будут, — и ему плохо и горько. А помочь ему никто не может, потому что он один» (Юрий Казаков, «Северный дневник», М., 1973, «Советская Россия», с. 199). Мне хочется чуть не всю статью переписать здесь, чтобы показать, как точно, изящно, проникновенно описывает он труд писателя, вызывая понимание, участие и восхищение.
Перечитываю свой текст через год, вношу стилистическую правку и наталкиваюсь на это утверждение. Оно не точно. В Юриных писаниях звучит и собственная мысль, так, в дневнике 1955 года (6 апреля) читаем: «Ненавижу, когда говорят: «Не люблю Толстого. Не люблю Гоголя. Не люблю Горького»... Можно не любить колбасу, редьку, постное масло, но гениями надо гордиться. Даже не любить их надо, а ощущать всегда в душе. Они теперь входят для нас в понятие родины» (Юрий Казаков, Избранное, ИТРК, М., 2004, с. 735). Пожалуй, точнее сказать, что, когда Юра задумывался о людях искусства, их труде, отношению к миру, этическим понятиям, его мысль всегда работала самостоятельно, и, разумеется, всё им высказанное всегда звучало в унисон с общечеловеческим ценностями. Но и то верно, что всё, относящееся к душе человека, было хоть кем-то когда-то высказано. Повторение здесь неизбежно.
Еще одна черта писательского мастерства Казакова — герои его писаний трогают сердце, как живые люди, от его строк всегда веет живой дух. Читаешь рассказ, и такое чувство, что ты сам чуть не вчера общался с его героем. Он, конечно, умел вызвать участие читателя к своим персонажам и в очерках и в рассказах.
И еще у Юры было врожденное чувство русского слова. Вот как он сам об этом сказал — с мистическим пониманием: «Это еще раз доказывает [выше Юра называет свой рассказ «Звон брегета» «деланным» — его герои говорят «напряженно и слишком изысканно»], что к речи надо иметь вкус, слово чутьем находить. И беда, когда писатель не видит спрятанный свет слова, не чувствует его заглушенный запах, когда в ладонях слово не отогревается, не начинает дышать и жить. Тогда дело совершенно безнадежно. Значит, это в тебе самом нет того изначального, единственного и настоящего слова». («Единственное родное слово». Беседа с корреспондентом «Литературной газеты», 1979, 21, XI. Цитирую по книге «Две ночи», Юрий Казаков, Москва, 1983, «Современник», с. 313.) Это было сказано ровно за три года до его смерти. У Юры это чутье было, как ни у кого. Д.В. Псурцев, поэт и переводчик, доктор филологических наук, настаивавший на том, чтобы я написала о Юре, как-то сказал мне, что Виктор Шкловский, преподававший несколько лет в Литературном институте, где-то написал, что за годы преподавания у него был среди студентов только один истинный писатель, и это — Юрий Казаков.
Обладая таким поэтическим даром, можно писать о любом пустяке и дарить читателю эстетическое наслаждение. Но это короткие штанишки, из которых писатель обязан вырасти. И Юра это чувствовал, когда писал очаровательные вещицы, например, «Оленьи рога». Прелестно, но достаточно об этом одного такого рассказа. Чтобы писать и писать дальше, должны раздвигаться умственные, психологические, исторические горизонты. Для этого у Юры было всё, но почему-то не суждено ему было вглядеться в самые затаенные уголки человеческой души, в подспудные силы, бродящие в обществе и двигающие историю. А если бы это случилось, какая великолепная проза была бы подарена русскому и мировому читателю! В. Турбин говорит, что Юра «был человеком первого шага, дебюта». Так почему же не было дальнейших шагов? Точнее сказать, за последние пятнадцать лет жизни талант его выплеснулся всего дважды, зато как никогда сильно. Это, как я уже говорила, два рассказа о маленьком сыне Алеше «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал». Рождение сына, великое новшество в его жизни, всколыхнуло врожденную силу таланта, и появились, пожалуй, самые лучшие рассказы отца о сыне в русской литературе XX века. И, конечно, еще один всплеск — «Розовые туфли», но о нем позже.
Оставленное им наследие невелико, но так полнокровно, так дышит жизнью всего живого под солнцем. Пусть написано мало — мал золотник, да дорог. Что же прекратило дальнейшее развитие творчества? Легкость писания не выработала привычки приклеиваться к стулу на многие часы на протяжении месяцев, лет. Он писал в упомянутой статье «О мужестве писателя»: «настоящий писатель работает по десять часов в день». Но сам он десять часов подряд никогда не сидел за машинкой. А закончив рассказ или длинный очерк, стремился вырваться из дома — на лыжах, на байдарке, или совсем из города — вВилково, на Валдай, куда угодно. Путешествия давали материал для его чувственного, живописного творчества. Мой учитель, замечательный переводчик художественной литературы, Ольга Петровна Холмская, называла его «медиум». Она говорила, рассказы у него получаются сами собой, он всеми фибрами души ощущает красоту природы, он — безупречный словесный посредник между ней и читателем. Отвечая на вопрос анкеты, розданной журналом «Вопросы литературы» (Ответы помещены в №9, 1962 г.) молодым писателям, Юра говорит: «Я много езжу, и после каждой поездки выходит у меня рассказ, а то и два, — иногда много времени спустя после поездки. Но это выходит как-то само собой».
И вот такой баснословно одаренный писатель в силу самых различных факторов отдал дань губительной русской привычке — служению Бахусу, говоря высокопарно. Я ни у кого не встречала упоминания того, что Юра много и тяжело пил. Это тягостное обстоятельство его жизни исследователи стыдливо обходят молчанием. Напрасно, исследование причин пьянства гениально одаренных людей, не только погубившего их талант, но и сведшего в могилу, вскрывает социальные и биологические корни заболевания, гибельного не только для человека, но и для целого народа, и, конечно, выявляет особенности социальной среды, в которой происходило становление и развитие таланта.
Позволю себе сделать еще несколько выписок из биографии Ю.П. Казакова, написанной исследователем его жизни И. С. Кузьмичевым («Юрий Казаков. Наброски портрета». Изд. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985 г.). Эти выписки имеют прямое отношение к дальнейшему повествованию.
«Прочитав казаковские рассказы на всероссийском семинаре молодых прозаиков в Ленинграде в ноябре 1957 года, В. Панова отозвалась о них так: «Юрий Казаков — талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоции, законченностью и стройностью, это — произведения большой литературы. В лепке характеров, в слове, ритмике, композиции, в искусстве создания настроения нам нечему учить молодого Казакова, он с не меньшим правом может взяться учить нас» (с. 47).
«Весной 1961 года «Северный дневник» — в рукописи он назывался: «Тихие герои. Северные путевые заметки» — был опубликован журналом «Знамя», и Казаков наверняка не предполагал, что этот «проклятый» очерк откроет собою книгу, которая окончательно сложится и выйдет отдельным изданием лишь в 1973 году.
Сюжет очерка «Северный дневник» ограничен летней поездкой шестидесятого года — из Архангельска до Мезени на пароходе «Юшар», потом на сейнере «Белужье» в деревни на Зимнем берегу Белого моря. Вместе с тем повествование пропитано всякого рода воспоминаниями, перемежается эпизодами и впечатлениями прежних северных поездок автора; самые неожиданные ретроспекции прихотливо переплетаются здесь, и в результате «время проживания» в очерке приобретает куда больший объем, нежели хроника месячной поездки» (с. 64).
«Окрестности Тарусы Казаков хорошо знал, исколесил их на мотоцикле, мечтал приобрести здесь собственный дом. И не только восхищался пейзажами, по крайне дорожил культурными традициями этих «милых художнических мест», дорожил кругом тех интеллигентов старой закалки, о ком довелось ему здесь узнать из первых уст и с кем посчастливилось самому общаться», (с. 91)
«Еще в марте 1962 года он делился с Конецким: «Я сейчас в Тарусе, и за десять дней написал очерк про Закопане — так себе, пустячок — и рассказ. Рассказ небольшой, но препоганый [Наверное, «Легкая жизнь»]. Я, знаешь, насколько раньше был непоколебим и уверен в себе, настолько сейчас закис и раскис и не знаю, что делать. Как-то тянет меня на высокое и важное, а высокого и важного что-то все не подвертывается, и то, что делаю я сейчас, совершенно мне не в жилу... А тут еще... Взял Толстого «Исповедь», почитал и совсем закручинился. Неотразимо пишет старик...», (с. 127).
«Мысль о счастье пронизывает один из самых, по-моему, дорогих для Казакова рассказов — «Осень в дубовых лесах» (1961), — где противостояние северной и среднерусской жизни оказывается художественным лейтмотивом.
«Осень в дубовых лесах» можно назвать рассказом о счастливой любви. Не той любви, что увенчана брачными узами, что дарит семейное благополучие, душевную стабильность и прочность домашнего очага, — нет, это рассказ о другой любви: зыбкой, призрачной, растворяющейся в письмах и снах, и все-таки — любви, приносящей счастье. Оттого, что любовь эта лишена традиционных атрибутов и надежной уверенности в своем будущем, герои рассказа так боятся ее утратить и так дорожат каждым ее часом» (с. 93).
Полвека отделяют меня от тех давних событий. Думаю о них, как будто вспоминаю сюжет любимой, давно не читаной книги.
НАЧАЛО. ЛЕТО 1960-ГО - ЛЕТО 1961-ГО. ПОХОРОНЫ ПАСТЕРНАКА
Январь 1960 года. Бегу морозным январским днем по центральной улице подмосковного посёлка Голицыно, спешу на московскую электричку. Мне тридцать лет, я давно развелась с мужем, у меня семилетний сын. Мы живем у моих родителей, где есть ещё моя младшая сестра и брат, который родился 22 июня 1941 года в четыре часа утра, как раз когда немцы бомбили наши пограничные города. Я еду в Москву, у меня дела в институте, я преподаю перевод в МГПИИЯ (Московский государственный педагогический институт иностранных языков, бывший «Инъяз», бывший «Мориса Тореза», теперь Московский государственный лингвистический университет) на переводческом факультете, с которым будет связана вся моя взрослая жизнь, скорее всего, до последнего часа.
Навстречу идет молодой, грузного вида мужчина в меховой шапке пирожком, с красивым неулыбчивым лицом, кожа под носом (там, где усы, как у Чарли Чаплина) покраснела от стужи. Он замедлил шаг, посмотрел на меня близорукими голубыми глазами, наверное, хотел поздороваться, вдруг кто-то знакомый, и меня как током ударило. Увидев, что ошибся, он пошёл дальше. А я поспешила на электричку.
В доме творчества живет моя учительница, вернее сказать, Учитель, Ольга Петровна Холмская, которая учит меня переводу уже десяток лет. И не только переводу, это очень умный, саркастический, но благородной души человек. Людей с таким пронзительным умом встречается мало, к тому же она, родившаяся в 1896 году, - объективный свидетель исторических событий всемирного значения, о которых я знала только из книг и рассказов бабушки, работницы ижевских оружейных заводов. Так, она однажды сказала мне, что первые годы после революции были в истории России самыми свободными. Даже церковь освободилась от гнета Синода. Примером своей жизни Ольга Петровна учила меня благородству человеческих действий, устремлений, поступков.
Я неслучайно оказалась в числе её подопечных. Письменный перевод на русский язык у нас в институте начинали преподавать тогда во втором семестре второго курса. Нашим преподавателем была очаровательная (внешностью и благовоспитанностью — потомственная дворянская женская грациозность) немолодая женщина Наталья Матвеевна Соловьева. Наталья Матвеевна была ещё и внимательный учитель. Она отличала мои домашние переводы из английской классики — я с упоением переводила заданные на дом отрывки. Сидела дома в большом разлапистом кресле в окружении словарей Даля и Ушакова, и «творила», не зная никаких правил, не имея понятия, что эти часы за письменным столом — тоненький ручеек, который превратится через десятилетия в полноводную реку — профессиональное занятие литературным переводом. Выросла я в семье, где не было ни писателей, ни переводчиков, и писательское дело представлялось мне сверхчеловеческим действом, а писатели — обитателями Олимпа, куда простым смертным доступа нет. У нас была большая библиотека, и писатели обитали для меня не в жизни, а под корешками книг.
Студенты не знают закулисной для них стороны преподавательской работы. По окончании учебного года на последнем заседании кафедры (мне это рассказывала потом Ольга Петровна), Наталья Матвеевна попросила О.П. Холмскую взять на следующий год нынешнюю 206 группу, так как в этой группе, по её мнению, три человека могли бы в дальнейшем переводить изящную словесность на русский язык. Так я и попала к Ольге Петровне, была сначала любимой ученицей, а потом другом, помощником и коллегой.
Ольга Петровна Холмская часто жила не у себя дома. В послевоенные годы ее домом была комнатка «сапожок» в студенческом общежитии, что в Петроверигском переулке, позже — двухкомнатная квартира в писательском доме у метро Аэропорт, улица Черняховского, дом 4, квартира 106; какое-то время и я там жила — Ольге Петровне было неуютно одной. Обычно она уезжала в Голицыне — жила в Доме творчества писателей, или снимала комнату у местных обывателей. Я приезжала к ней и тоже останавливалась в Доме, если бывала свободная комната, или что-то снимала. Отношения у меня с О-Пе-Ха, как звала её Евгения Давыдовна Калашникова, еще одна переводчица из группы кашкинцев, были как у мастера и подмастерья. Ольга Петровна учила меня мастерству перевода, а я, чем могла, помогала ей. Она плохо видела, и вот мы сидим у неё в комнате, она, полулежа на кушетке-кровати, читает вслух свой перевод «Тайны Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, а я слежу по английскому тексту, чтобы поймать пропуск или неточность. По ходу дела Ольга Петровна разъясняет, почему она перевела какое- то место именно так. Это была великая школа.
В тот раз, во время студенческих каникул, я снимала комнату у древней, но живой и весёлой старухи в такой же древней халупе, тёмной внутри и снаружи, недалеко от Дома творчества, где я обедала за небольшую плату. Так я оказалась среди молодых писателей, которые стремились в небожители, но были совсем обычные молодые люди. Кроме одного — Юрия Павловича Казакова. Это его я встретила по дороге на станцию тем морозным январским днем. Среди обитателей дома, кроме молодежи, — писатель-юморист Ардов, Зинаида Шишова, написавшая прекрасную детскую книжку про Колумба «Великое плавание» (побольше бы сейчас таких книг), переводчица Воннегута Рита Райт-Ковалёва. Ещё помню дочь поэтессы Вероники Тушновой Наташу, писателя Иосифа Ге- расимова, друга Казакова, и фронтовика Марата, сына Шишовой. Обедали на застекленной отапливаемой веранде, за продолговатым овальным столом. За окнами снег, заиндевевшие кусты и деревья. А на веранде тепло, аппетитно пахнет едой, свежим черным хлебом. Старинный вид ей придает обширный резной буфет, в котором держат столовую посуду. На обед приглашает горничная: стучат писатели на машинке и слышат: «Кушать, пожалуйста», «Кушать, пожалуйста». Ардов, идеально красивый мужчина, приходил на обед с очень маленьким металлическим чайником и рассказывал смешные истории, правда, иногда не очень смешные. У него, в квартире на Большой Ордынке, живала, наезжая в Москву, Анна Ахматова. Рита Райт, маленькая старушка с овечьим подбородком, рассказывала о своих встречах с Маяковским. После обеда собирались в небольшой уютной гостиной с книжным шкафом, велись разговоры, совсем не помню о чём, но в них не было ни особой учёности, ни остроумия. После ужина, тепло одевшись, шли гулять по морозным, освещенным тусклыми фонарями улочкам, меня провожал домой Оська Герасимов [писатель Иосиф Герасимов]. А Юра Казаков ходил с Наташей Тушновой, милой девушкой-школьницей, у неё были зелёные глаза с карими крапинками. Наташа мне потом рассказывала, что он нежно ухаживал за ней, но она была влюблена в своего школьного учителя истории и Юрия Казакова отвергла.
Ольга Петровна сказала мне, что Юрий Казаков — начинающий молодой писатель, как говорят, очень талантливый. Попросила взять в институтской библиотеке его нашумевшую книжку «На полустанке». Уйдя на пенсию, Ольга Петровна больше в институте не работала. Последний год я посещала все ее занятия. Чтобы получать полноценную пенсию, Ольга Петровна перешла на полную ставку, но тянуть такой воз не могла — институт находился в нескольких зданиях, одно в Ростокинском проезде, куда надо добираться на трамвае от метро Сокольники. Это здание институт получил, когда Сталин «разоблачил» Марра [Николай Яковлевич Марр, русский и советский востоковед и кавказовед, филолог, историк, этнограф и археолог, автор «яфетического учения», развенчанного в 1950 году], и Институт востоковедения, находившийся в нём, был закрыт. Мне доверили её полставки (я была аспиранткой Ольги Петровны), и половину нагрузки с неё сняли. Разумеется, я не взяла у нее той половины денег, что она получала за полную ставку (она, естественно, предложила их мне): ведь я ходила на все её занятия и училась не только переводить, но и преподавать.
И я взяла в библиотеке книжку Казакова — маленькую, беленькую, невзрачную. Сначала ее прочитала Ольга Петровна, потом уже я. Книжка меня восхитила, такого ясного, чистого, невязкого, даже поэтического языка я не встречала ни у одного современного писателя, разве что у Паустовского. Я сказала это Ольге Петровне. Она подумала, подумала и говорит: «Казаков пишет под влиянием Бунина, так же сочно и живописно, да и жизненный материал, и отношение к нему — бунинские. Впрочем, это свидетельствует, скорее всего, о сходстве натур». Я подумала, что это, наверное, правда.
Кончились каникулы, и я вернулась в Москву. А весной, в марте, Ольга Петровна опять поселилась в Голицыне, она любила жить поближе к природе. У неё было полдомика в Звенигороде, но там некому было готовить. И она зимой жила в голицынском Доме творчества. Ольга Петровна позвонила мне оттуда. Попросила привезти что-то и сказала, что можно пожить в доме дней пять между моими уроками в институте, свободна крохотная комнатка на втором этаже. Я приехала, заплатила в местной конторе за пять дней, вошла в дом и в сенях на вешалке увидела темно красный шарф Юрий Павловича. Сердце моё чуть не выскочило из груди. На этот раз среди писателей был великий Юрий Домбровский. Он дружил с Ольгой Петровной, однажды она взяла меня в Переделкино, к нему в гости. Я уже тогда сомневалась насчет авторства Шекспира. А Домбровский написал о Шекспире книгу «Смуглая леди сонетов». Мы пришли к нему в комнату. Беспорядок там царил страшный, везде, на кровати, на стульях, — книги, рукописи, бумага. Он был великолепен. Высокий, тощий, на голове копна черных волос, и очень добрые цыганские глаза. Я не осмелилась вымолвить свои сомнения в авторстве Шекспира, и он нам долго рассказывал, как ему самому виделся ещё более великий (хотя кто его знает, с позиций вечности) Шекспир.
И вот теперь здесь и Домбровский и Казаков. Помню два эпизода. Сидим мы как-то с Домбровским в гостиной-библиотеке, и он вдруг ругнулся матом, я в тот же миг размахнулась и ударила его по щеке — не сильно, конечно. До сих пор моя ладонь чувствует мягкую дряблость кожи его щеки. Домбровский не обиделся, сказал только «простите». Спустя шесть лет я встретила его в Доме Союза писателей, в пристройке к Г ерценовскому дому, он узнал меня и спросил:
— Вы та дама, которая за мат дала мне пощёчину?
Я кивнула и попросила у него прощения. Он ответил:
— Так мне и надо, — и засмеялся.
Больше я никогда его не видела.
А второй эпизод связан с Юрием Павловичем. Он дал мне прочитать коротенький рассказ о Ленинграде, где описано разведение мостов. Кажется, это рассказ «Пропасть», только он был короче и без трагической нотки. На другой день после обеда мы сели с ним в укромном местечке, и я сказала ему, что думаю об этом рассказе. В нем нет глубины, неповторимости чувств, он даже чуть-чуть пошловат. Но очень похвалила описание разведения в Ленинграде мостов. Ни слова не сказав, Юрий Павлович взял свой рассказ и ушёл к себе в комнату на первом этаже. Как же я себя ругала. Сама, сама разрушила крошечный мостик, который стал между нами возводиться. Но на другой день во время общего разговора в гостиной Юра вдруг сказал, чуть заикаясь: «А мне нужна такая жена, как Марина, чтобы неравнодушно читала мои рассказы». Я не отнесла этих слов к себе, восприняла их как обобщённое заявление. Речь шла не обо мне, а об определенном женском характере. Таким гигантом, особенно по сравнению со мной, представлялся мне Юрий Павлович. Чего он, конечно, не подозревал. И сам в себе, как в человеке, не ощущал олимпийского величия. Но силу своего таланта понимал, чувствовал свою исключительную незаурядность. И хотел, чтобы для близкого человека он был самый великий писатель. Это я поняла позднее.
Кончились мои пять дней, я опять вернулась в Москву, не имея никаких надежд на неслыханное блаженство — быть вместе с любимым человеком. И хотя я как будто покорилась невозможности счастья, воспитывала сына, с увлечением переводила, читала Достоевского, готовилась к занятиям, но, когда в мае Ольга Петровна, которая всё ещё жила в Голицыне, сказала, что там опять поселился Юрий Павлович, и, кажется надолго, я рванула туда, и наша встреча меня согрела. Он был явно рад меня видеть. В доме опять жила Рита Райт-Ковалёва со своей дочерью длинноногой Маргаритой, умной, целеустремленной, с большим каштановым пучком на затылке, доброжелательной, но не очень красивой, похожей на мать. Я увидела, что Юра не безразличен ей. Рита Яковлевна говорила о нём с восторгом и как бы уже о близком её семье человеке. Май был очень теплый. Юра позвал меня покататься на лодке на голицынский пруд. Я согласилась. Взяли лодку, купаться он не думал, но было так жарко, что он стянул свои выцветшие бумажные штаны, и в синих семейных трусах нырнул в воду. Юра не потерял для меня ранг небожителя, но становился как-то более своим, что ли. Я вернулась в Москву, ни о чем важном для себя не поговорив с Юрой. Ау Маргариты умерла бабушка, она поехала хоронить её и попросила меня по возвращении не приближать Юру к себе. Я ей обещала.
А 1-го июня умер Борис Пастернак. Какая-то столичная газета, кажется всё-таки «Литературная газета», поместила позорно короткое сообщение в малюсенькой траурной рамке: «Умер член литфонда, поэт Б. Л. Пастернак». Поэт и переводчик Андрей Сергеев, мой приятель и коллега (мы вместе переводили роман Томаса Гарди «В краю лесов») позвал меня поехать в Переделкино, почтить память великого русского писателя. Подошли к дому, калитка открыта, на дорожке к крыльцу — еловые ветки, вступили в светлую комнату, никого, на столе покойный поэт, кто-то тихо играет на фортепьяно в соседней комнате, кажется, Рихтер. Андрей наклоняется к мертвому лицу и целует в лоб. Я смотрю, стараясь запомнить смертную маску. Не запомнила. Всегда в воображении Пастернак, каким нарисовал его Анненков.
Похороны на переделкинском кладбище через день. Я не сомневаюсь, Юрий Павлович приедет на похороны. И я там увижу его.
В этот раз поехала в Переделкино одна. Улица, ведущая к кладбищу, заполнена вся медленно движущейся темной лентой пришедших проститься. Мне удалось подняться на возвышение почти к самой могиле. Народу — море. Опускают гроб, с сильным деревянным стуком падают первые комья. Вспоминаются поразительно точные стихи Марины Цветаевой «И первый ком о крышку гроба грянет». Растет гора цветов, меняются один за другим чтецы. Гениальный «Гамлет» из «Доктора Живаго». Да, Пастернак — небожитель. А мы, неспособные придумать ничего подобного — пигмеи. И всё же я счастлива — живу в столетие, когда в России расцвел величайший поэтический цветник. А если бы меня угораздило родиться раньше, скажем в XVIII веке, я не знала бы стихов, считанных с небес в последующие века, не читала бы Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Каких радостей была бы лишена моя жизнь.
В том дне для меня сплелись два мотива — прощание с великим поэтом, претерпевшим страдание от невежества, обернувшегося агрессивным злом, и предчувствие, казалось бы, невозможного счастья — встреча с писателем, у которого потрясающее поэтическое перо. Это я сейчас так перевожу на язык смысла обуревавшие меня тогда чувства. А тогда я всё время искала взглядом грузноватую фигуру с неласковым лицом. И я увидела его, недалеко от себя, он был один в плотной толпе прощавшихся. Был уже конец траурной церемонии.
— Юра, — окликнула я его с забившимся сердцем.
— Привет, милая, ты одна?
— Одна, Андрей Сергеев был здесь позавчера. Сегодня не мог приехать.
— Поедем ко мне в Голицыне, помянем гения. Ты свободна?
— Свободна.
Любовь — это помрачение рассудка, мозг отключается, грудь распирает сладчайшее блаженство. Помянуть великого поэта с любимым — такое не могло присниться даже в самом счастливом сне. В моей жизни до сих пор всегда было так: тебя любит тот, кого ты не любишь, а ты любишь того, кто не любит тебя. Наверное, потому, что я всегда влюблялась не в ровню себе, а в того, кто меня чем-то превосходил, во всяком случае, мне так казалось.
Мы пошли не на станцию Переделкино, от которой доехали бы до Киевского вокзала, оттуда на метро до Белорусской и в Голицыне. Юра сказал, что от писательского поселка всего несколько километров до Баковки, что на Белорусской железной дороге. Пройдемся по лесу. А там на электричку, до Голицына всего полчаса. И мы двинулись в путь, понятия не имея, сколько нам предстоит идти. Сначала шагалось легко, начало лета, пешеходная дорожка шла лесом, яркая, свежая зелень заслоняет солнце, веет прохладный ветерок, перешли мостик через ручей. Говорила больше я, рассказывала о трудностях художественного перевода, о русском языке.
— Миленькая, — вдруг сказал Юра, - брось ты свои переводы, давай говорить о вечном. Как поживает Оська?
— Какой Оська?
— Уже забыла? Герасимов.
— А-а, Герасимов. Я его с тех пор невидела. С ним что-то случилось?
— Да нет, ничего. Он мне сказал тогда, что ты с ним трахалась.
— Что за чушь! Он мне не нравится. Я даже целоваться с ним не могла бы.
— Странно!
— А когда он это сказал?
— Да тогда и сказал. В январе, в Голицыне. Ты ведь с ним ходила.
— Да, он меня провожал один или два раза. Потом уехал в Москву, а когда вернулся, через два дня, кажется, уехала я. У меня даже его телефона нет.
— Это правда, старуха?
— Я, Юра, уже тогда только о тебе думала.
— А что же молчала?
— Так ведь ты был влюблен в Наташу, дочку Тушновой.
— И то правда.
— А Наташа как поживает?
— Я ее тоже с тех пор не видел. Она мне рассказывала, что втюрилась в своего историка.
— Юра, а Маргарита сейчас в Голицыне?
— Нет, уехала. Рита Райт, её мать, провела со мной беседу. Попросила без серьезных намерений ее дочь не трогать, это неблагородно. Я испугался и стал с ней холоден.
Лес кончился. Давно перевалило за полдень. Было очень жарко, мы шли, шли, а конца дороги все нет. Попался деревенский магазинчик, Юра выпил пива, купил бутылку коньяка. Спросили, сколько еще до Баковки. Оказалось, километров пять. Он устал, идти ему было тяжело, взяли такси и поехали в Голицыне, не подозревая, что едем к нашему будущему, которое продлится ровно пять лет.
Вернулась я домой на другой день. Когда сейчас говорят, что в Советском Союзе не было секса, это ошибка. Секс, конечно, был, другое дело, что всё было не так, как теперь. Отношение к этой стороне жизни у мужчин и женщин по биологическим причинам — различны. М.М. Пришвин писал в своем дневнике, что у мужчины половой акт всегда связан с деторождением, а у женщин нет. Меня сперва это удивило. Но, подумав, я поняла, что он прав. Очень точное замечание. И, наверное, этим объясняется такая мощная похотливость мужчины. Природа (или Создатель) предусмотрительна: чтобы род человеческий не вымер, мужчина снабжён механизмом оплодотворения, который работает бесперебойно — изо дня в день, из недели в неделю — на протяжении почти всей его жизни. Мужчина в плену этого механизма. И если лишить его руля и ветрил, то общественная жизнь людей превратится в ад. Сейчас главная узда — семья (раньше была еще церковь), где должны быть все условия, чтобы этот мужской механизм мог действовать с той частотой, какая предусмотрена свыше. Неженатый тридцатилетний мужчина в некоторых странах считался угрозой для общества, и, если он не выказывал брачных намерений, его не допускали в общество, где есть молоденькие девушки (XIX век, Англия). Совсем иной детородный механизм у женщин. На миллионы сперматозоидов мужчины приходится в течение жизни семьсот (плюс-минус пятьдесят) яйцеклеток, ждущих оплодотворения. Оно может происходить раз в месяц, тогда как мужчина может оплодотворять женское яйцо не только каждый день, но и несколько раз на день. Создателю надо было (почему-то), чтобы род человеческий не прекращал существования. Он и наделил мужчин, в своих целях, столь мощным производительным потенциалом. По-видимому, кроме религиозных увещеваний, нет иной силы, способной обуздать похоть, или, вежливее сказать, вожделение. В семье мужчина удовлетворяет похоть, сколько душе угодно. А холостяку, вне семьи, приходится худо. И потому мужчины, в общем, хотят жениться. Такая избыточная и необоримая жажда размножения вызывает у женщины жалость к любимому мужчине. И довольно часто у женщины по этой причине, скорее всего, подсознательно, рождается к мужчине материнское чувство. Жена с материнским чувством к мужу простит ему измену, потому что пожалеет его. Но так это не у всех женщин.
В Советском Союзе у мужчин было столько же сперматозоидов, сколько и в других общественных формациях. Поэтому было так же много романов, измен, соитий до брака и вне брака. Но в СССР был инструмент, наказывающий слишком активных мужчин, — Коммунистическая партия Советского Союза. Из-за этого случались страшные трагедии. Это я к тому, что любовных историй и в те семьдесят лет было предостаточно. Другое дело, что произведения искусства в то время воспевали целомудрие. Впрочем, целомудренной (по форме) была в царское время и вся русская классическая литература. Целомудренная по форме, хотя бесконечно щедрая в ублажении читателя любовными коллизиями. Правительство СССР понимало, памятуя, наверное, судьбу Римской империи, которую погубили не только варвары и христианство, но и абсолютное развращение нравов, что непотребное поведение полов губительно для государства. И строго следило, чтобы на экраны и на страницы художественных произведений не проникала порнография. Так что судить о любви при советской власти по кинофильмам, романам, повестям, — зряшное дело. 25 марта 2008 года была посмертная передача о Георгии Гачеве [Георгий Дмитриевич Гачев — российский философ, доктор филологических наук, культуролог, литературовед и эстетик; ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН; автор концепции ускоренного развития литературы], посвященная его памяти. Гачев сказал как-то, обращаясь к школьникам: «Не верьте, что вам внушают сейчас эти бессмысленные люди. Все эпохи одинаковы, в каждом времени есть своя чума. И при Сталине и при Гитлере люди влюблялись, ходили в лес, катались на коньках». Я сначала подумала, что он не прав. Но, подумав, уразумела его правду. В каждом времени есть своя чума и свои радости. В сталинское время чума — Лубянка и Гулаг, радости — трудовая стабильная жизнь простых людей, как, например, жизнь моей семьи. В гитлеровской Германии — гестапо и концлагеря, а вот радости, если и было, то очень недолго и то лишь для природных германцев. В наше время чума — безмозглые и бессердечные рыночные отношения, которые убивают стариков, спаивают мужчин и отправляют на панель женщин, выброшенных из созидательного труда, не находящих применение в общественном трудовом устройстве.
Но вернемся в тот, такой далёкий, июнь 1960 года. Мы с Юрой были свободные от брачных обязательств люди, могли отдаться чувствам, никого не обманывая. Особого привкуса, существующего в отношениях между любовниками, имеющими семьи, у нас не было. Для меня Юра скоро стал родным человеком до последней клеточки его ума и тела.
Провожая меня на станцию, Юра взял у меня телефон. «Позвоню, когда буду скучать», — сказал он, прощаясь, некоторые его фразы я до сих пор наизусть помню. 14-го июня — мой день рождения, мне тридцать один год, выгляжу я молодо, судя по фотографиям того времени. Мои родные — на даче в Барвихе. Я дома в большой четырёхкомнатной квартире одна. Вечером пришел мой школьный друг еще с довоенной поры — В.С. Он литературовед, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. Умница, и теперь уже можно сказать трагической судьбы. Он не женат, волочится за мной, я дружу с его матерью и сестрой. Мы вечно спорим о литературе, о роли Ольги Петровны в моей жизни. Он считает, что мог бы больше делать для моего творческого развития, чем она. Вдруг телефонный звонок, беру трубку.
— Привет, миленькая, — слышу Юрин голос. — Что ты делаешь?
— Ничего.
— Давай будем ничего делать вместе, — говорит Юра, слегка заикаясь. — Приезжай на Арбат, дом 30, квартира 29, жду.
— Еду, — говорю я.
Время час ночи, но не очень темно. В.С. знает про Юру. И понял, кто звонит.
— Еду к нему сию минуту, — бросаю я.
— Поезжай, конечно. Но не сомневаюсь, очень скоро мы с тобой весело посмеемся над этим приключением.
Не посмеялись. Хотя друзьями остались на всю жизнь.
Метро уже не работает. Я живу в Покровском-Стрешневе. Тогда ходить ночью по Москве было нестрашно. Дошла до Ленинградского шоссе. Подхожу к метро «Сокол». Возле меня тормозит грузовик. Шофер лет пятидесяти приветливо спрашивает, далеко ли иду. Говорю, на Арбат.
— Садитесь, довезу, со стороны Смоленской.
— Мне надо как раз туда, — отвечаю я, — дело спешное.
Сажусь к нему в кабину, и через полчаса он остановился у Смоленского универмага. А еще через пять минут я в объятиях Юры, он ждал меня на Арбате у своего дома. Не помню, какой этаж, но лифта, по-моему, не было.
И вот я первый раз, на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, вхожу в комнату, где живет Юра с родителями. Сейчас их нет, они у кого-то на даче. Очень хорошо помню эту комнату, могу даже нарисовать ее. Комната четырехугольная. Напротив двери узкое высокое окно. Комната, как войдешь, чуть левее, поделена двумя глухими шкафами, перпендикулярно к двери, на две половины, левую и правую. Между шкафами неширокий проход в левую, спальную половину, там стоит изголовьем ко второму такому же узкому окну высокая широкая кровать с металлическими шарами, где спят родители. Угол за изножьем кровати заставлен какой-то рухлядью. Обои мутно-зеленоватые, на них рисунок, напоминающий подводное царство, — силуэты водорослей, во всяком случае, такое у меня ощущение. В правой половине, куда ведет дверь из коридора, у стены ближе к окну та самая кушетка, которую мне было обещано завещать, перед ней, у той же стены, небольшой стол, что-то еще подокном, не помню. Вот и вся обстановка. И вот что я хочу сказать. Никакого стеснения за такую скудность у Юры не было. Он был естественный человек, воспринимающий внешние атрибуты жизни, как неизбывное, но не позорящее данное, и оценивал их только как «удобно» или «никуда не годно», а не как возвышающий или принижающий признак социальной лестницы. В этом мы с ним были похожи. Он понимал, испытывал на себе, что его жилище скверно. Но все же крыша над головой. Так мы и начали жить, время от времени, в этой комнате. По утрам за окном громко гулили голуби. Я ходила в Смоленский универмаг за едой. Обеда не готовила, нельзя было из-за соседей появляться на кухне. Юрина комната находилась, как войдешь, сразу же первая дверь налево. Мусор складывали в продуктовые бумажные пакеты и, уходя, брали с собой.
Так вышло, что наша вторая ночь любви выпала на мой день рождения. Повторю, мы были два свободные человека. У меня не было ни мужа, ни любовника. Мне они были не нужны. Мой брак не открыл мне, что брачные отношения могут давать наслаждение и женщине. Подруга моей дочери в двадцатипятилетием возрасте говорила «зачем мне это сомнительное удовольствие». И, наверное, у большинства русских женщин было тогда к сексу именно такое отношение. А шла женщина на это «сомнительное удовольствие», когда ее постигала великая любовь. Если бы у Юры не было такого таланта, я не влюбилась бы в него с силой солнечного удара. Но если бы такой же талант был облечен не Юриной плотью, я бы тоже не полюбила его. Что ко мне чувствовал тогда Юра, не берусь судить. Он хотел видеть меня, сказал однажды (в самом начале), что со мной в постели ему очень удобно, а с К. всё что-то мешает. Я могла жить без мужчины, работа (преподавание и перевод), сын, семья (родители, сестра, братья), книги, музыка, друзья, — все это до отказа наполняло мою жизнь. А Юра не мог быть без женщины, женщину требовало его мужеское естество. И из всех окружающих его женщин выбор пал на меня по каким-то неведомым мне причинам. Я знала за собой четыре положительных свойства: у меня нет зависти, я не кокетка (во мне нет жеманства), я не стяжатель. И я никогда не предам. Но не этими свойствами женщина влюбляет в себя мужчину. Вот такими были наши отношения в июне 1960 года.
Так встретились и полюбили два человека. Были они в чем-то схожи. Но в одном совершенно разные.
Когда мы с Юрой познакомились зимой 1960 года, мы оба принадлежали, в общем, к одному поколению, оба жили в Москве, у того и другого — рабоче-крестьянское происхождение, высшее образование, занятие литературой. Но до чего разные были у нас шлейфы прошлого. Какими разными путями шли мы к своим тридцати годам. Эти пути друг друга нам были не ведомы. И мы воспринимали один другого каждый со своей колокольни. Что могло выйти из соединения таких шлейфов?
Неслучайно название одной из частей так и не состоявшейся Юриной повести о войне — «Разлучение душ». Очень перекликается со строчками Евтушенко: «Со мною вотчто происходит, / Совсем не та ко мне приходит [...] О, кто-нибудь, приди, разрушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Мы были «близкие души», и все-таки нам суждена была разобщенность. Так не были ли ее причиной наши разные предыстории? Живя с Юрой бок о бок пять лет, я никогда не задумывалась, какими диаметрально противоположными были у нас детство, отрочество и юность. О своем детстве я всегда думала словами Льва Толстого: «Счастливая, счастливая неповторимая пора детства, как не любить, как не лелеять воспоминания о ней».
А Юра не любил говорить о детстве, не касался его и в своих рассказах. В одном из писем Игорю Кузьмичеву он писал, что детство у него было «весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?)». И Кузьмичев комментирует: «... в детстве его еще не пробудившееся сознание словно бы окутывала душевная дрёма; было в его житейских обстоятельствах что-то сковывающее, какая-то подавленность и сирость, что-то мешавшее ему дышать полной грудью; и даже читать тогда доводилось мало, и книжек в родительском доме имелось негусто». И далее: «В хмурые военные годы все, по его словам, упиралось в заботы «о хлебе, одеже», о том, как обменять карточные талоны на продукты, жилось тогда голодно и тяжко и, чтобы хоть как-то помочь семье, не терпелось поскорее обрести самостоятельность, получить профессию, определиться при деле. Словом, после восьмого класса, в 1944 году, Казаков поступил в московский Архитектурно-строительный техникум, а в 1946-м — в Музыкальное училище им. Гнесиных.
Военное отрочество, послевоенная юность — глухая, безрадостная полоса в биографии Казакова.
Много лет спустя в письме к Эдуарду Шиму он жаловался: «А вооб- ще-то грустно, как начнешь перебирать юность, не знаю, как у тебя, — у меня это самое печальное время. Хоть брось!..» (Цит. по И. С. Кузьмичев «Юрий Казаков. Наброски портрета». Изд. Советский писатель. Ленинградское отделение, 1985 г.)
В рассказе «Зависть», который редко включается в его книги, есть краткое, но подробное описание тяжелых военных лет: «А я опять ушел, но уже дальше, в ту первую свою московскую ночь, когда я стоял на крыше под бомбежкой. Я увидел опять убитых и раненых и заваленные кусками стен улицы. Я увидел октябрь в Москве — баррикады, жирные тучи аэростатов по бульварам, редкие, отчаянно громыхающие, битком набитые трамваи. Пепел летал по улицам, временами где- то рвались снаряды. Листовки, как снег, с неба, и в листовках обещания сладкой жизни. И мы на загородных полях, за Потылихой, ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки, амбразуры в подвалах, патрули — полупустой город. Замерзающие дома, мрущие старухи, холод в квартирах, железные печки, и всю зиму потом темнота, коптилки, лопнувшие трубы водопровода и бледные грязные лица. И все эти годы изнурительная работа грузчиком — дрова, уголь, рулоны бумаги, кирпич, потом слесарные мастерские, потом снег на крышах... Телогрейка, старые штаны. Разбитые сапоги. И постоянный голод. [...] Я смотрел в те годы картину «Серенада Солнечной долины». Я смотрел на экран, как на тот свет, мне не верилось, что люди так могут жить где-нибудь. Потому что каждый раз после кино я шел домой в свою темную грязную конуру» (Две ночи, Юрий Казаков, М., «Современник», 1986, с. 90-91). Этот рассказ очевидно автобиографичен, в нем есть наша первая ссора в Тарусе, и Юрина поездка на маленьком теплоходе в Марфино. Написан рассказ зимой 1963-64 года. В нем его отрочество, ранняя юность и первые годы четвертого десятилетия жизни.
А вот что пишет Юра о себе в дневнике летом и осенью 1951 года, 8 августа ему исполнилось 24 года. Запись 29. VII. 51г. «Сегодня приехал из Солги. Гостил у отца. Там сейчас находится мама. С легкой душой оставил я Солгу. Не очень-то понравилось мне там. Но вот приехал в Москву, и что-то тяжело на душе. Там остались мои родители. Очень тяжело складывается жизнь». Затем 24. VIII. 51г. «Как и следовало ожидать, я никуда не попал. Почему, спрашивается? Неужели я такой уж неспособный чурбан? Не думаю. Нет. Просто все еще слишком легко отношусь к жизни. Это в мои-то годы! Когда Добролюбов 24 лет умер знаменитым. Лазо 23 года командовал фронтом. Что же это за люди? То ли гении, то ли люди с железной волей, которая все сокрушает на своем пути!»
Из следующей записи ясно, что он провалился на экзаменах в трех вузах. И он никого в этом не винит, кроме себя. А мог бы в личном-то дневнике написать о том, что у него нет блата, вот его никуда не приняли. Нет, виноват он сам, нужна воля, сокрушающая все на своем пути. Юра ощущал в себе зреющую жемчужину, мечтал, конечно, о славе, признании, богатстве. И он позже проявит эту волю.
А через два дня, 26 сентября, пишет: «Когда я с таким позором провалился в трех институтах, передо мной встал вопрос: что делать дальше? И вот я начинаю искать работу. Ищу, ищу... И по сей день ищу. Правда, мне довелось пробоваться в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, но вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное.
В общем, неутешительная картина для меня и для моих близких, особенно матери.
Но есть и небольшая, правда, но отрадная сторона в моем существовании. Это то, что я разрешился наконец от своего годового почти писательского кризиса. Удивительно, как влияет на творчество (я говорю о себе, конечно) неудача. В прошлом году я написал пьеску. Небольшую по размеру и скромную по таланту. Написал я ее, и пошла она, бедняга, мыкаться по редакциям. И брать не берут — и отказывать не отказывают. Так до сих пор и блуждает. Правда, пока она нашла себе пристанище в «Трудрезервиздате», и мне даже пообещали ее напечатать, но дело опять застопорилось, и, вероятно, снова возвратят. Вот это-то и отбивает охоту писать еще что-нибудь.
Итак об отрадной стороне. Я все-таки понемногу сейчас разрешаюсь от молчания и начинаю пописывать. Пишу пьесу (одноактную) и два очерка о природе. Пишу тяжело, по многу раз исправляя написанное, но все же пишу. Природа и рассказы о ней — старая моя страстишка. Вот и сейчас закончу запись и начну снова копаться в рассказах, ворошить слова и переделывать фразы. Интересно, так ли пишут свои вещи большие писатели?«[Пунктуация Ю.П. Казакова].
Какая искренняя, изящная, живая и точная проза! А сам Юра еще не подозревает, что именно для писательства он и рожден на свет Божий.
Его отец Павел Гаврилович то ли был в ссылке в то время, то ли в тюремных лагерях. И Устинья Андреевна постоянно к нему ездила, иногда ездил к отцу и Юра. Он как-то сказал мне, что его не брали играть в оркестре театра, потому что он был сын осужденного. А театры посещают высокопоставленные зрители, и сидевший в яме музыкант может совершить террористический акт. Потому и не брали. Двадцать четыре года, один в Москве, работы нет и никаких перспектив, хотя есть уже музыкальная специальность. Помогал ему дядя Федя, брат матери. Он устроил его на курсы работников многотиражки, которые открылись у него на заводе. Все-таки это было занятие, близкое к тому делу, которое сидело в Юре, как Буратино в полене папы Карло. И все время давало о себе знать. Интересно, что в тот год он писал «тяжело», «ворошил слова, переделывал фразы». Это и было его настоящее писательское ученичество — усердствовать, пока фраза не зазвучит так, что сам себе скажешь — «вот, наконец, именно то, что надо». Через шесть лет, когда начались наши с ним странствия, Юра уже писал легко, как поет птица.
Запись 22. X. 51г. «Начал писать повесть. Интересно узнать бы, как работают над крупной формой писатели. У меня что-то плохо клеится. Черт знает как ее писать. Очень трудная штука — повесть. Много действ, лиц, и всех их нужно обрисовать. Показать развитие характеров и т.д. Кроме того, нужно воплотить в повести какую-то идею. А как это сделать? Ну ладно, узнаю еще. Не все ведь сразу. Я успокаиваю себя мыслью о том. что и крупные писатели работают над повестью или романом несколько лет.
Временами же мне кажется, что я вовсе не способный к этому делу человек, и тогда наступает вялость мысли и вообще не хочется браться за перо.
Пробовал устроиться грузчиком на ф-ку «Красный Октябрь». Ничего не получилось. <...> Что же теперь делать? Ох, деньги, деньги! Деньги — это эквивалент счастья. Под счастьем в данном случае я подразумеваю удобства, хорошую одежду, обильное питание и т.д., и т.п.
Хотел бы я пожить немного, не думая каждодневно: «Где взять денег на хлеб, на квартиру, на питание?» Деньги и средство их добывания — вот что пока занимает меня непрестанно.
Мать пока еще не приехала из Солги. Безобразие!»
От этой записи такое впечатление, что Юра уже начал академически изучать литературное дело. Появились профессиональные слова «крупная форма», «развитие характеров», «воплотить идею». И звучит надежда, что его скоро всему этому обучат. Значит, наверное, было где. Но самое сильное, страшное, впечатление от нее — жизнь молодого человека двадцати четырех лет в Москве пятидесятых, имеющего профессию и не знающего, где взять деньги, чтобы не умереть с голоду. И счастье для него тогда (он понимает, что это «на данный случай») — хорошая одежда, обильная еда, и чтобы не думать ежедневно, где взять деньги на хлеб и жилье.
В те девять лет, что отделяют эти записи от нашего знакомства, Юра окончил Литературный институт. И постепенно втягивался в литературную деятельность, среду. Это вживание имело две особенности. Во- первых, он сразу объявил себя не заурядным и бесспорным талантом, вызывающим почтение и зависть, и, во-вторых, этот талант не приносил ему материальной обеспеченности. Но к июню 1960 года отчаянного положения сороковых и начала пятидесятых уже не было. Вот такая Юрина предыстория. Вот что было у него в анамнезе. И это, конечно, окрашивало в жесткие, несветлые тона его восприятие окружающего мира. Серенады Солнечной долины в его мире не было.
Совсем другими были для меня война и послевоенные годы. Весна 1943 года. Мой отец, инженер-подполковник, кандидат технических наук, после разгрома немцев под Сталинградом принял непререкаемое решение вернуть в Москву всю свою большую семью, которая жила в эвакуации в Свердловске. Там жилось тесно и голодно, но любовно и дружно. Нас приютила мамина сестра, инженер-энергетик, у нее крошечная двухкомнатная квартирка в частном деревянном двухэтажном доме, в ней девять человек на восемнадцати квадратных метрах — бабушка, тетя, ее трехлетний сынок и нас шестеро, с нами была еще наша верная домработница. И вот родители решили, что надо возвращаться в Москву. Отец выхлопотал для всей семьи пропуск, первого апреля мы простились с дорогими родными и сели в поезд Свердловск-Москва. На вокзале отец повел нас в офицерскую столовую и по сэкономленным талонам накормил все семейство — мама, папа, домработница Маруся, две дочки, два сына — куриной лапшой, ничего вкуснее я не едала, зима была голодная. В Свердловске у меня появилась подруга, тоже эвакуированная москвичка, Алла Коллегаева. Ее отец был академик, и в Свердловске их поселили в хороший дом, в трехкомнатную квартиру со всей мебелью и даже с роялем. Они были прикреплены к академическому распределителю и в Москву не спешили. Мы с ней расстались, дав друг другу клятву обязательно встретиться в Москве. Алла училась в училище Гнесиных по классу фортепьяно. Продолжала учиться музыке и в эвакуации. Я часто бывала у них в гостях, она много мне играла. И я полюбила классическую музыку. Уже в Москве мы с ней часто ходили в консерваторию. Так пополнялась моя личная культурная копилка.
Приехали мы в Москву в начале апреля. Помню, отец запасся для нас несколькими связками сушек, они висели на стене в кухне. Мама тут же устроилась на работу. Ее однокурсник по Институту красной профессуры Н.Г. Гончаров заведовал кафедрой педагогики в Институте иностранных языков, ему нужны были преподаватели, и он пригласил маму читать курс истории педагогики. Мама защищала диссертацию «Педагогические взгляды Ушинского», а теперь ей предстояло окунуться в историю европейской педагогической мысли. И она с увлечением взялась за дело. Готовилась к лекциям, учила немецкий язык. Отец раз в полгода подавал заявление об отправке его на фронт. Он был кандидат физико-технических наук, их отдел занимался всеми, какие ни есть, баллонами, в Советской армии. И был постоянно в командировках, но все время просился на фронт. После войны начальник управления вызвал его к себе, подал ему пачку его заявлений и сказал: «Я не давал им хода, у тебя четверо детей, мал мала меньше. А ты и здесь был нужен».
У моих родителей чисто рабоче-крестьянское происхождение. Мамина мама, Мария Филипповна Юдина, работала на ижевском оружейном заводе, воронила стволы, ее свекор был «кафтанщик», он на том же заводе проработал 54 года без штрафов и прогулов и был пожалован цилиндром и шитым золотом кафтаном, его портрет до сих пор хранится в Ижевском краеведческом музее. Отец из бедной крестьянской семьи, из деревни Семикино Тамбовской области, его фамилия была Федя ев, отчество Иванович, и был он тогда Дмитрием Ивановичем Федяевым. В Гражданскую войну пятнадцатилетием парнем попал в бронеотряд, которым командовал украинец Архип Григорьевич Литвинов, который усыновил его и отправил в Москву на рабфак. Туда же отправили и мою маму, которая была лучшая в Ижевске пионервожатая 1924 года. Ей на лето дали отряд из тридцати мальчишек и девчонок, детей рабочих, и одного беспризорника. Дали мешок гречневой крупы и большую бутыль подсолнечного масла. И с этим отряд поехал жить в лес. Читали, пели песни, учились маршировать, готовили еду, хлеб им подвозили, собирали грибы, ягоды. Все делали сами, у мамы была всего одна помощница, женщина лет сорока, на которой лежали хозяйственные хлопоты. На детском параде перед началом учебного года мамин отряд занял первое место. И она получила путевку в Москву на тот же рабфак, куда ехал отец. Там мои родители и познакомились. Они оказались и прилежными и очень способными. После рабфака — институт. У отца — Московский институт инженеров транспорта, у мамы — Второй университет, отделение русского языка и литературы. После окончания института отца призвали в армию, и он стал военным инженером железнодорожного транспорта. Мы колесили с ним по всей России, жили на Дальнем востоке, на Кавказе, в Свердловске, потом его перевели под Москву, где он преподавал в военно-железнодорожной школе сопромат и защитил диссертацию. Росла семья, мама воспитывала нас, как она говорила «по Песталоцци». Не знаю, что это значило. Но наставления были такие: всегда говори правду, скажешь правду, половина вины долой, больший, лучший кусок отдай другому, помогай слабому, не обижай меньших, много читай и не бойся никакого труда. Мы с братом читать научились рано. Моя первая книжка в четыре года — «Барышня-крестьянка» Пушкина.
Тогда как Юра в годы войны, чтобы хоть чем-то питаться, работал грузчиком, чернорабочим, мы с братом Димой ходили в школу, делали дома уроки, читали; меня учили музыке, Дима занимался спортом, уже в войну работали в Москве детские спортивные школы при спортивном обществе Красной армии. Брат записался в футболисты, ребятам выдали бесплатно спортивную одежду и обувь, и они учились играть в футбол с опытными тренерами. Отец читал лекции о международном положении и о положении на фронтах, за которые ему платили небольшие деньги, а, главное, давали иногда продукты. Помню, после лекции на овощной базе отцу презентовали несколько банок арбузного меда.
В доме еще не работал водопровод, не было электричества, отопления. Воду приносили из колонки, и во дворе была общественная, чистая и удобная уборная, почти никто из жильцов еще не вернулся. Но в кухне имелась большая плита, которую топили короткими чурками. Уроки делали в кухне. Да и весна вступила уже в свои права. Наш дом построили перед самой войной, и вокруг него у подъездов оставалось еще много строительного мусора. Мама бросила клич — расчистим двор под огород! Выбрали все кирпичи, доски, гвозди, камни. Получились отличные участки и со стороны улицы и во дворе. Посадили картофель, сажали его верхушками и глазками, посеяли морковь, свеклу, капусту, горох, укроп, вырастили даже огуречную рассаду. Летом ездили за грибами, ягодами, солили грибы, варили варенье. И две следующее зимы голодными не были. В квартире шестиметровая комната, ее всю на метр засыпали картошкой, выросшей на наших участках. Нам повезло, мы жили на окраине Москвы. Москва нашим военным городком кончалась, можно было хоть целое поле засеять картошкой.
Правительство издало постановление, что все школьники старше 14 лет должны во время летних каникул месяц отработать на каком-нибудь предприятии. Лето 1943 года я работала месяц в ЦИЭМе, институте экспериментальной медицины, который находился в получасе ходьбы от нашего дома на берегу Москвы-реки. Шла война. Нужны были лекарства, особенно те, что излечивают инфицированные ранения. Пенициллина тогда еще не было, но наши медики изобрели грамицидин, исцеляющий гнойные раны. Его и производили в ЦИЭМе. Меня зачислили в лабораторию, где готовили бульон для выращивания субстрата, из которого производилось это лекарство, обсеменяли этот бульон, разливали в узкие двухлитровые бутыли и укладывали их для созревания в термостаты. Вот я и укладывала эти бутыли. В термостатах было 40°, они были довольно тесные, и взрослый человек в них залезть не мог. В них были специальные полки, встроенные под углом, куда я и укладывала бутыли. Женщины все были добрые и веселые, нам полагалось за вредность молоко, мой рабочий день должен был длиться шесть часов, но я всегда задерживалась до конца смены. Я гордилась этой работой. Производство не прекращалось ни на один час, работали в три смены. Летом 1944 года наш класс месяц работал в деревне. Пололи и мотыжили картофельные поля, капустные, бесконечные грядки лука и других овощей. Жили в помещении школы, кормили нас наваристыми мясными щами. Зимой 1943-44 года в школы и предприятия присылали «американскую помощь»: одежду и обувь. Мне досталось модное серое демисезонное пальто и серо-синий шерстяной костюм. Так что на осень и весну я была одета. Писать о войне можно без конца. Эти четыре года у каждого своя особая страница жизни. В Свердловске было голодно, но немножко еды все же было, покупали на рынке дешевую мороженую картошку, терли ее и варили кашу, довольно противную, но сытную. В Москве — посещение госпиталя, чтение раненым писем, писание писем, помощь санитаркам. Бомбежек я не видела, и все годы войны мы с братом верили в победу и ждали ее, понимали, что нынешнее всеобщее неустройство рано или поздно окончится. Эта детская вера жила в нас благодаря оптимизму родителей, учителей, воспитателей детского дома. Первый год войны мы с братом провели в детском доме, у мамы на руках четверо детей, младшим в первый день войны: сестре — год и семь месяцев, братцу один день от роду. И они с отцом решили отправить нас в эвакуацию с детским домом, организованным маминым учреждением Наркомпросом — Народным комиссариатом просвещения.
Сегодня я сравниваю первый год войны — Юрин и мой. Юра в четырнадцать лет видел, как немецкая фугасная бомба разрушила театр Вахтангова, как гибли люди, видел октябрьскую панику; худой, голодный подросток разгружал машины, платформы, слесарничал, жил в промозглой, нетопленной комнате. А мы с братом в первый год обитали в крошечном городишке Оса на берегу Осинки, притока Камы. Плыли мы туда по четырем рекам, на двух пароходах; в Горьком, ныне Нижний Новгород, нас, детей от трех до пятнадцати, пересадили с одного парохода на другой, которому предстояло плыть по Каме. Жизнь наша изменилась, река, трюм, темно, полки, но много детей, и с нами замечательные педагоги, научные сотрудники московского государственного института дефектологии, люди добрые, педагогически грамотные и ответственные. В Осе среднюю группу — 3 и 4 классы — поселили в одноэтажный деревянный дом, просторный и теплый. Меня, я перешла в пятый класс, зачислили в старшую группу, которую разместили в темноватом кирпичном двухэтажном здании, неуютном и, как мне показалось, холодном. Оно мне не понравилось, наверное, потому, что нас с братом разъединили, поместив в разные группы. Я очень редко плачу, а тут заплакала. Подошел Георгий Николаевич Воронов, высокий, похожий на актера Черкасова, с добрым внимательным лицом. Я плача сказала ему, что не хочу расставаться с братом.
— Этому горю можно помочь, — улыбнулся он, и меня тут же отвели через базарную площадь во второй интернат к брату. И потекла удивительная жизнь. Мы ходили в местную школу, расположенную в здании, бывшем до революции острогом. Об этом напоминали только квадратные окна раструбом, проделанные в очень толстых стенах. А какие были учителя, они преподавали еще в дореволюционных школах. Помню учительницу русского языка Павлу Дорофеевну, худенькую, уютную, лет шестидесяти. Она первая показала мне, каким должен быть учитель. Писали диктант, в нем было слово «чересполосица». Весь класс сделал ошибку, вместо «с» написали «з». И оценка «отлично» была только у меня. Я по рассеянности пропустила эту букву. Павла Дорофеевна говорит:
— Зная твою рассеянность, я поставила тебе пять.
— Но я бы тоже написала «з», — краснея бормочу я.
— Вот за это признание «отлично» останется.
У меня до сих пор тепло на сердце, когда я вспоминаю ее. Прекрасная учительница была и по математике, помню только, что имя ее было Лидия. После школы в интернате шла жизнь, полная интересных занятий. Сначала, конечно, уроки, потом пение, уроки музыки; издавали газету, мальчишки рисовали наших солдат, пушки. Танки, как они бьют немцев. Был у нас драмкружок, мы готовили для госпиталей — их в Осе четыре — постановку сказки Пушкина о спящей царевне. Я была ведущей, читала наизусть пушкинский текст, мой брат был царевич, Галя Пушкина — царевна, актеры учили роли, остальные готовили декорации, хрустальный гроб, цепи, изображения ветра, солнца, месяца.
Я мечтаю когда-нибудь более полно написать обо всем этом. Погрузиться в дорогие воспоминания. До сих пор почти наизусть помню эту прекрасную сказку. В детском доме мы пробыли ровно год. Когда мама с детьми переехала из Кирова, первого места эвакуации, в Свердловск к своей сестре, они все на семейном совете решили взять нас из детского дома, хотя он еще работал потом целый год, до лета 1943 года. После чего все дети возвратились в Москву в свои семьи. Вот так отличался мой и Юрин первый год войны. В мою память, в мое сознание запали образы добрых, умных, справедливых людей, готовых прийти на помощь другим по первому зову.
Кончилась война, в 1947 году я окончила школу. И сразу поступила на подготовительное отделение Института иностранных языков (МГПИИЯ), где работала мама. Естественно, проблем с поступлением у меня не было. Но училась я всегда хорошо. Школу окончила с двумя четверками, по физике и сочинению. Меня всегда осеняло доброе расположение к себе Судьбы, Небес, Создателя. И главное везение в юности — мой преподаватель Ольга Петровна, которая развила во мне заложенные еще дома ростки любви к русскому языку, родной русской литературе, русской природе. Ко времени знакомства с Юрой у нас накопилась прекрасная семейная библиотека, и вся классическая литература XIX и XX веков давно стала моим постоянным чтением, да и та зарубежная, которую в то время можно было найти в переводах.
У нас с Юрой было, действительно, много общего. Мы были искренни, не лицемеры, любили русскую культуру, простых русских людей, русскую природу. Но мироощущение и восприятие людей у нас было разное. Мое мироощущение светлое, Юрино — мрачное. Что объясняется совершенно разными условиями протекания наших детских лет и юности. И, конечно, Юра был наделен великим поэтическим даром, а у меня этого дара не было. И для меня этот дар был великим сокровищем и достоинством, перекрывавшим все остальные качества человека. И вот эти двое принялись, очертя голову, сплетать свои жизни.
МАРФИНО
Юра поехал в Поленово. А я у себя дома на Щукинской готовилась к своим занятиям, помогала делать уроки сыну. И писала Юре письма в ответ на его послания. Вот первое письмо (не первое, но из тех, что у меня есть, первое), по-моему, ответ на Юрино письмо от 14 сентября. Оно очень длинное, наверное, помещу здесь не всё. Это черновик, чистовика у меня нет: «12. Понедельник. 9.60.
Добрый денек, дорогой мой! Позавчера только отправила тебе письмо, а сегодня не могу, чтобы не написать. Так привыкла к нашим разговорам. Помнишь, сколько мы всего обговаривали. Вчера читала в Брокгаузе статьи про Ивана Златоуста, Ивана Грозного и Ивана Антоновича (Иван 6). Слушай, тебе надо писать историческое. Любви к русскому и России у тебя довольно, так что будет в твоих вещах и патриотизм, который необходим. Об Иване Грозном я читала еще у Ключевского. Это был удивительный характер. Я его очень понимаю. Вот послушай, то что я сейчас напишу. Это мои собственные соображения. По природе Иван IV человек добрый, умный и понимающий чужое страдание, ум у него более созерцательный, чем деятельный (это не мое наблюдение), но характер составлялся в страшно сложных условиях. Вообрази себя царем всея Руси да еще с властью божественного происхождения. Как может при этом характер исказиться! Здесь есть материал для размышления. Но я сейчас о другом. Иван Грозный имел ум наблюдательный, глубокий, сочувственный, гибкий, и поэтому привлекал к себе людей интересных, талантливых, Сильвестр, Алексей Адашев, Курбский. Но ум у него к тому же был не полностью здоров. Была в нём червоточина — недоверчивость. Причем эта недоверчивость не была врожденной, а родилась в слабом мозгу, подверженном маниакальности. А произошло, по-моему, это вот как. До 1553 года (царю тогда было 23 года, и он царствовал уже 6 лет), никаких грозных деланий за Иваном IV не числилось. В 1553 г. он тяжко занемог. Он хотел, чтобы присягу принесли его сыну. Младенцу. А окружающие, в том числе, самые близкие Сильвестр и Адашев высказались против сына Ивана IV за его двоюродного брата. Вот тогда и было брошено в больной мозг Ивана Грозного первое семя недоверчивости. А могло бы случиться, что болезнь по какому-нибудь иному поводу могла бы принять иное направление. Да и сам братец, которого Иван любил и которому очень доверял, изменил ему, составив партию и метя на трон. Причем, учти, к брату Иван не изменился, узнав о его измене, очевидно, Иван встал на место брата и понял, как велик был соблазн стать царем по смерти его, Ивана. А потому, когда брат присягнул его сыну, он зла на него не затаил. И наоборот назначил его опекуном при своем сыне на случай своей смерти. А вот приближенных своих он понять, а потому и простить, не мог. С его точки зрения им действительно не было оправдания. И только когда болезнь — подозрительность приняла очевидные формы, стала очевидной болезнью, в Иване вспыхнуло недоверие, и он казнил брата страшно, со всей семьей. Это случилось уже в 1560 или 70 году.
А болезнь его развивалась, по-моему, так. Он приглашал к себе кого-нибудь, а так как в часы, свободные от роковой подозрительности, был добр, справедлив и умен, к тому же был царь, то на первых порах ему служили с охотой, причем среди приближенных были люди двух разных толков. Это, во-первых, образованные, просвещенные, великодушные люди, такие по прошествии некоторого времени, убедись, что Иван Грозный (не подозревая его больным, а может быть и зная, и от этого еще больше боясь царственного безумца) переменчив, а при смене настроения жесток до кровопийства (при другом воспитании и другом окружении в детстве жестокость могла бы и не вырасти до таких ужасных форм), и безрассуден, и, не видя средств поправить дело, изменяли ему, и при счастливом стечении обстоятельств давали тягу. И с каждой такой изменой Иван становился еще более недоверчивым, а отсюда жестоким, и эти его действия вызывали очередное недовольство и снова измена и т.д.
Видишь, какая страшная трагедия. И как страшно мучился сам царь, не веривший никому, кроме тех некоторых (вторая группа), потерявших облик человеческий, которые по его велению, не раздумывая, с беспримерной жестокостью, были всегда готовы расправиться с неугодными. (Это Малюта Скуратов, Василий Грязной). А царь был безумен, но не тем безумием, при котором человек полностью лишен разума, а тем, когда человек во всем здрав, рассудителен и только в одном не имеет силы справиться с собой, не понимает, что надо справляться. Хотя и раскаивается в своих жестокостях, кровавых действиях, и мучается страшно, но возлагает всю вину на казнимых. Не видит, что у него в душе и оттуда надо начинать, а начинать потому не может, что мозг слаб. Это и есть болезнь. Как говорят, попал под колесо.
Это, конечно, мои собственные размышления. Меня страшно волнует наша история. Подумай, в тех самых местах, на той самой земле (хотя это все очень относительно — и земля парит где-то уже за тридевять земель от того места, где она находилась при Иване, и сама земля уже не та, и кругом все другие. Чудно. Как человек каждую секунду меняется, теперь он не то, что был минуту назад и состоит из других веществ, а форма все та же. И эта форма, содержание которой ежесекундно меняется, постоянно остается. Юрий Павлович Казаков и М.Д. Литвинова не разрушаются от постоянной смены содержимого. Так и место. То, да не то). Сто, триста, пятьсот лет жили люди, наши с тобой соплеменники со своими муками, счастьем, безумием. И мук все-таки, по-моему, было больше. Разные были царствия на Руси. Иваново правление было страшное. А вот Алексея, отца Петра, царствие было прекрасное, тишайшее. Об этом в другой раз.
Дома все без перемен. ОПХ сняла снова ту же комнату в Голицыно, в среду или четверг будем перебираться. У нас дома тоже царствие тишайшее. Вот уж истинно островок в этом мире. Вчера вечером я сижу у себя, (жаль, что ты не был у меня и не видишь моей комнаты) за машинкой. (Написала, между прочим, рассказ. Наверное, пошлю тебе). Димка [сын] лежит на диване и читает. Папа в столовой за круглым столом готовится к занятиям. Володя [брат] чертит. Степка [пес породы «боксер»] храпит во всю. Таня [младшая сестра] приехала сдачи. Ездили за грибами, и она — подонок — забыла очки и ни одного гриба не нашла. Вернулась свежая, прохладная, щеки красные, глаза синие. В брюках, стройная. Хорошая у нее жизнь, наша была труднее. Ну, завидовать нечего, пока ты у меня есть. Крепко тебя целую. Очень скучаю по тебе. Марина.
Я бы к жизни Ив. Грозного такой эпиграф написала:
Лучше быть доверчивым, чем подозрительным.
Лучше обмануться тысячу раз, чем пролить кровь одного невинного человека».
Вот такой черновик. Не знаю, что я оставила в чистом варианте. Но про Ивана точно там было, как явствует из Юриного ответа. Я не без интереса перепечатывала это письмо. Прежде всего, это «дикое историческое» письмо, как выразился Юра, писалось любимому человеку. Я, как видно, представляла его себе таким, какой была сама. И думала, что подробности русской истории должны и его так же сильно волновать. Это только сейчас я понимаю (поняла лет тридцать назад) что ху-дожественная, поэтическая одаренность только в сопряжении с гениальным умом готова углубляться в историю, психологию, географию, ботанику и пр. При этом важно еще, чтобы гениальный поэт попал в обучение гениальному мыслителю, хотя это и не обязательно. У нас в России поэтический гений, любивший историю, — Александр Сергеевич Пушкин. В Англии Шекспир — Ратленд, имевший учителем великого мыслителя Фрэнсиса Бэкона. Я потом не раз встречала талантливого художника в широком смысле слова, у которого щупальца таланта не в силах дотянуться до сокровенных глубин человеческого бытия. И еще вспомнилось, что уже в тридцать лет я очень любила историю. Правда, тогда русскую. У меня на полках многотомные русские истории Соловьева и Ключевского. Наверное, поэтому, занимаясь Шекспиром, я сразу начала с того, что старалась уразуметь, увидеть историческую обстановку, в которой появился и творил великий англичанин «Уильям Шекспир».
А 17 сентября Юра прислал мне из Поленова письмо, написанное от руки:
«Meine liber Meri!
Я по тебе тоже соскучился. А ты мне пишешь какие-то дикие письма про Ивана Грозного. Я например страшно рад, что живу не в его царствование. Вот и все мое мнение о нем.
Теперь о нас. У меня дело застряло. Мне надоели очерки. И я поклялся, что больше ни за что, кроме рассказов, не возьмусь. Мне в этом пример Чехов и Бунин — они молодцы, знали свой шесток и не лезли в публицисты. Хотя у Бунина есть «Путевые поэмы»... Но это другое.
Так вот — я застрял. И наверно не уложусь в срок. Поэтому я решил так — в ближайшие дни съезжу в Марфино и договорюсь. Потом, допи- тавшись здесь, (я заплатил за питание в д/о до 22-го) перебираюсь в Марфино и буду жить до победного конца, т.е. до середины октября. Там будет печка, и деревня, и баня, и осень. И все такое. Молоко, яйца и проч. И там я буду «наблюдать на природу», как говорят кишиневские евреи. И там я буду работать по утрам. Господи! Там я буду плевать на всех и работать, чтоб заработать моральное право мотануть потом в Пицунду валяться на солнце есть виноград и кряхтеть.
А вообще я подонок — у меня все планы летят к чорту. Я хотел ехать бражничать в Тбилиси. Ну фиг с ними. Так вот. Ты работай, брось все свои побочные дела, работай по-коммунистически, т.е. набирай часы. К концу сентября — началу октября ты должна быть свободна. И не меньше, чем на 15 дней. А то одно расстройство будет. И бери какой-нибудь перевод. Будешь по утрам потихоньку переводить, чтобы не мешать мне.
А в полдень мы будем надевать сапоги и плащи и выходить. Только обязательно достань настоящий плащ с капюшоном [последние четыре слова подчеркнуты]. Отними у мамы или у Тани [моей сестры — прим. автора] или у кого хочешь. А то я тебя убью.
Вот и все. Я потом тебе позвоню или напишу и все растолкую (расписание пароходов, как ехать и пр.) и буду встречать на пристани, прокопченный деревенским дымом и пропахший навозом и молоком.
Телеграмму получил, спасибо. У меня такое чувство, что я помер; а там где-то продолжается жизнь и печатают то, что когда-то было у меня в сердце и башке.
Очень я пережил смерть Панферова. Хороший был человек. Писатель плохой, но человек — редкий. «Октябрь» теперь пойдет на нет.
Ну, будь здорова!
Ю. Казаков
Поленово 17 сент.
Р.8. Я намазал сапоги дегтем и теперь у меня в комнате стоит душу очищающий запах. Я вот капну на лист, а ты понюхай. Это здоровый русский посконный сермяжный запах, а не какой-нибудь там пудры или духов. Я тебя буду мазать дегтем и любить за твою сермяжность».
Когда я сейчас читаю это письмо, я знаю, что было потом, какой конец уготован нашей любви, и мне грустно и горько. А тогда, получив его, я ощутила неслыханное счастье. Может, потому, что я родилась в деревянном доме с русской печкой и не раз жила там до восьми лет, или потому что мой отец был крестьянин, я люблю русскую деревню, парное молоко, запах цветущего картофельного поля, лес, полный грибов и ягод. И возможность пожить с любимым «вдали от шума городского» была для меня таким же счастьем, как и для Юры. Юра писал очерки не очень охотно. Но, получив командировку от журнала или газеты — это давало верные деньги (других верных доходов не было): его очерки публиковали сразу, — тут же по возвращении садился за машинку и писал живые зарисовки виденного. Так появились «Северный дневник», «Калевала», «Белуха». И еще про Вилково.
Я работала в институте. И надо было отпроситься, чтобы в конце сентября и в октябре пожить с Юрой в деревне на Оке. Но я не отказывалась и от другой работы. Делала литературную правку плохих переводов, точнее сказать, подстрочников, которые подстрочниками официально не назывались. И моя работа была их редактированием, точнее, переписыванием. Разница в оплате была большая. Переводчик получал за один тираж сто рублей, плюс потиражные. А редактор — двадцать или, в лучшем случае, — тридцать и без потиражных. Я переписывала с английского, итальянского (сказки Джанни Родари), с испанского и даже с японского и индонезийского. У меня это получалось быстро и складно.
А 20 сентября Юра пишет из Поленова же такое письмо.
«У меня вчера тоже был хороший вечер: получил газету с Брегетом, получил твое милое письмишко и окончательно договорился насчет своего дальнейшего жития.
Ты кричала как-то, что меня любишь, и еще кричала о «делании». Так вот, настала пора деяний. Вот я тебе задам!
Я снял целое поместье на Оке, этакую усадьбу. Там многое есть, но кое-чего нету и это все чего ты должна будешь привезти.
Перечисляю по пунктам:
Коньяк 3 зв. /одну бутылку/.
Простыни и наволочки /штуки по четыре/. [Вычеркнуто ручкой] Масло сливочное /1 кг./
Кофе молотый /полкило/
Чай /самый лучший — пачки три/
Хлеба белого /побольше/
Колбасы, ветчины и т.п. /побольше/
Патронов охотничьих, заряженных /30 штук/. О калибре я тебе потом напишу особо. [Вычеркнуто]
Кофейник /Может быть, не надо, я тебе напишу/. [Вычеркнуто] Ленту для пиш. маш. чёрную 13 мм. /Вычеркнуто/
Сахару /2 или 3 кг./
[Неразборчиво] и убытки за мой счет.
Вот кажется и все. Впрочем, наверняка, я что-нибудь забыл, я тебе потом напишу или позвоню.
Это письмо я отправлю тебе из Тарусы, я туда еду сегодня — за карточками, к Паустовскому и позвонить тебе.
Теперь как сюда ехать. На сей день по Оке идут из Серпухова три парохода: один рано утром, часов в пять, второй днём — я не знаю во сколько, на пристани узнаю и напишу тебе, третий в 5 часов вечера. Если будешь ехать с пятичасовым, то из Москвы надо выезжать с тем поездом, с каким выезжал я. На вокзале бери такси, до пристани 12 рублей. Билет на пароход надо брать до Егнышовки. Здесь я тебя встречу. Можно ехать и на машине. Серпухов — Таруса, из Тарусы по большаку до Трубецкого, а оттуда в Марфино. Если будешь ехать на машине, то в Марфине последний дом направо — мой. Но насчёт машины это я на всякий случай, м.б. тебе неудобно будет затруднять отца, или м.б. он будет занят или м.б. вообще ты не захочешь, чтобы он стал участником [«участником» зачеркнуто, сверху ручкой написано «свидетелем»] всей нашей мрачной жизни [«жизни» зачеркнуто, сверху — «любви»].
Осень настает великолепная. Я тебя очень прошу: бери отпуск на максимально возможный срок, чтобы потом не рыдать у меня на груди, что мало пожила. Да, вот ещё: с 1 октября остаются два парохода из Серпухова: 5 утра и 5 вечера.
Я хочу купить себе тут дом, так мне нравится в Марфине. Понимаешь, как здорово? Такие дали, такие детали, что ай люли! Я дрожу. Дом сдали мне москвичи. Там есть печка — русская. Буду топить и сушить грибы. Грибы ещё есть — белые. Рыба есть — в реке. Дичь есть. Ах, ах!
Теперь относительно рассказа [«Звон брегета»]. Рассказ плохой. Там только одно место хорошее — это когда Лерм. на Зимней канавке и снег идёт. Всё остальное ненатурально и следственно литературно. Но всё равно я его люблю, и если мне будут говорить о нём плохо, я стану рычать и драться. Этот тип из Комсомольца написал мне, что беспрерывно звонят читатели и спрашивают, где можно достать мои книги.
А ты обратила, старуха, внимание на мою фамилию? Она набрана такими аршинными буквами, что это дело даже несколько компенсирует для меня те 600 руб. кот. я получу за рассказ. Никогда в жизни фамилию мою так не наберут. Счастье мгновенно и единично в нашей жизни.
Я тебя жду в конце сентября или в начале октября. Но если ты сможешь освободиться раньше, то это будет вообще такой бенц, такой бенц, что я помру.
А за водой надо ходить глубоко вниз, к Оке, к роднику, а потом, высунув язык, карабкаться вверх. Я так замучился с этим делом, что вот уже дня четыре ничего не пишу. Очерк мой завяз окончательно. И вообще я помираю без тебя. Нету, понимаешь ли, — как это слово, симптомов*, что ли? Ну, в общем сверхзадачи.
Письма ты пишешь мне гнусные — какие-то литературно-исторические. Ну да бог с тобой.
Я тебя прощаю.
Адрес мой теперь такой: Калужская область, Тарусский район, дер. Марфино. Мне.
Да, я вспомнил, пароход /второй/ в Поленово в 11-08, значит из Серпухова выходит он часов в девять утра. Это тебе не подходит, очень рано. Так вот, значит остается только один пароход: 5 часов вечера. В Марфино он приходит в 9 вечера. Из Москвы ты помнишь поезд — 2 часа 4 минуты, кажется.
За день или два тебе нужно меня известить телеграммой о дне твоего выезда.
Вот и все пока. Будь здорова.
Юрий
20 сент. Поленово.
*А вспомнил — стимулов!»
В этом письме — отклик на одно из моих посланий, в котором есть такие строки: «Сегодня утром, отправив Димку [сына], я легла досыпать и не уснула, а долго тебе рассказывала, как по-доброму я к тебе отношусь. И все хорошие слова точно соответствовали тому, что имеется в душе. А эти слова, оттого, что они означают хорошие человеческие чувства, приобрели от своих значений привкус наигранности, сладости, неискренности и сентиментальности, но других-то слов нет. Я приуныла. А потом вот что поняла: всякое чувствование душевное обязательно материализуется. Оно, если только оно в самом деле имеется, не удовольствуется тем, что ему соответствует, как вывеска, почетное слово (любовь, доброта, верность и т.д.), — а обязательно проявится в «делании». И вот по «деланию»-то и надо судить о том, что в душе. Темно что-то я пишу, только ты пойми, что я хочу сказать».
Судя по Юриному письму, он понял мое понимание «делания», взывая ко мне, чтобы я осуществила его.
Мне удалось договориться с кафедрой и деканатом, и меня отпустили на месяц, до ноября. Числа 24 я отправила Юре такую телеграмму (черновик на телеграфном бланке): «Калужская обл Тарусский район дер Марфино Казакову Юрию Павловичу
Собиралась выехать воскресенье [25 сентября] отпуск дают задерживает книга Гарди Кажется придется переводить с Андреем Сергеевым роман Вудляндеры 24 листа условия хорошие Все окончательно выяснится в понедельник или вторник Тоска сидеть в Москве однако делать нечего напиши что еще захватить Целую Марина»
В тот год осень была чудесная. Я выехала из Москвы, наверное, в среду или четверг — 28 или 29 сентября. Было очень тепло. Хорошо помню, как ходила по залитому солнцем Серпухову в поисках коньяка три звездочки, и помню доброго продавца в маленьком магазинчике, который радовался, что у него нашлась последняя бутылка именно такого коньяка. Все остальное было куплено в Москве. Юра нервничал, что пароход, на котором я поплыву, не остановится по просьбе пассажиров у Марфина. 26 сентября один вечерний пароход не остановился, он даже написал жалобу в речное пароходство. И получил такой ответ:
«Тов. Казакову Ю.
26 сентября в 13—10 пристань Егнышевка проследовал теплоход М — 251 на вахте находился капитан тов. Шевченко.
Вторично даём указание всем капитанам пассажирским судам по требованию пассажиров производить остановку Трубецкое.
Капитант/хМ— Капитан т/х М — 251 тов. 251 тов. Шевченко предупрежден.
Зам. Начальника
Серпуховской РББ [роспись] /Макарёнков/
5 —X —60г.»
Я благополучно добралась до пристани, люблю путешествовать по незнакомым местам. В тот день на теплоходе — это был совсем маленький кораблик, белый, с верхней палубой и нижним помещением для пассажиров — плыло всего два пассажира: немолодой аккуратного вида мужчина и я. Помню, мы с ним разговорились о местном житье-бытье, но о чем точно был разговор, запамятовала. Помню, что разговор был душевный. И капитан оказалась приветливым и сочувствующим человеком. Конец сентября, темнеет рано. Мы плывем, плывем, час, другой, третий. Я беспокоюсь, что Юра не получил мою телеграмму и не выйдет меня встречать. Как я доберусь до его дома? Берег по правую руку, где находится Марфино, высокий, порос дубами. Я вышла на палубу. В воздухе сильно пахнет опавшими дубовыми листьями, запах как от стружек химического карандаша. Сказала капитану о своем беспокойстве, и он утешил меня. В том месте, где теплоход причалит, на половине склона стоит домик бакенщика, я его сразу увижу. У него можно переночевать, такое бывало. А утром бакенщик проводит меня до деревни.
И вот, наконец, теплоход стал разворачиваться. Крошечная пристань, темно, хоть глаз выколи. Кажется, на ней никого нет. На носу у теплохода прожектор. Его сильный луч, поворачиваясь, высвечивает Юрину фигуру. В руке у него фонарь, но не зажженный, он побоялся, что меня на теплоходе нет, а капитан, завидев свет фонаря, подумает, что надо взять пассажира и напрасно причалит. Но я там была, попрощалась с капитаном, спутник мой уже давно сошел, и соскочила на дощатый причал.
Ночь, сильные запахи реки, осеннего леса. Теплоход прощально загудел, повернул и скоро слился с чернотой ночи. И мы с Юрой зашагали по береговому склону наверх. В одной руке у него ведро, в другой мой чемодан. Я несу сумку и фонарь. Мы следуем к нашему первому жилью — снятому деревенскому дому. Он точно описан в «Осени в дубовых лесах». А вот как я описала на листке из амбарной книги (откуда она там взялась?):
«Мы живем в деревне. Наша изба на самом краю. За ней начинается большое озимое поле, изумрудно зеленое и ярко свежее, с двух сторон его окаймляют аллеи старых лиственниц, которые уже пожелтели и стоят пушистые, лимонного тона. Напротив нашей избы птичник длинное, сложенное из почернелых от сырости бревен, укрепленных на красных кирпичных стояках, крыша соломенная. Наша крыша тоже соломенная, подернута мхом, мох покраснел — осень. Живописно. На птичнике работает тетя Дуся, в ее распоряжении 1100 цыплят, белых, черных и пестрых. Раз по пять на день она скликает свою живность и тогда слышен певучий с подъемами и падениями, протяжный, всегда одного ритма крик; у — рю — рю — ю, у — рю — рю — рю — рю — ю». За цыплятами прилетает коршун». Вот, к сожалению, и все.
Прожили мы там, наверное, дней пятнадцать, потому что уже 19 ноября Юра пишет письмо из Гагры. Вот оно:
«Здравствуй, Мариночка!
Я приеду 26-го в два часа (или в 3) дня, это, кажется суббота, ты, пожалуйста, сиди дома я тебе позвоню и мы пойдем в «Прагу» и выпьем и чего-нибудь слопаем. Только ты не ешь, а голодай, чтобы вкусить всего со сладостью.
Я тут не работал совсем, обстановка не располагал. Но есть идеи. Одна из них: поселиться наподобие Р. Райт в Голицыно на всю зиму. Ходить на лыжах и работать.
Чтоб ты не скучала, я посылаю тебе песню, которую сам сочинил. Ее можно петь на слова «Я безумно тебя люблю» или «жестоко ранен тобой»
Вот она
АПедго Мойега1;о (довольно быстро, с джазовым оттенком)
[Дальше идут ноты]
Сейчас тут шторм, ветер, пахнущий розами из Турции. Машину — ту, которую тебе предлагали — к чертям. Я покупаю новый Москвич т.е. новой модели.
Привет!
Гагра (?) XI 60г.»
У меня есть еще одно письмо Юры из Тарусы, написанное 9 сентября, а какого года — неизвестно:
«Ну вот я и сподобился и опять побывал в Марфино.
На этот раз мы нырнули правее деревни, если заезжать в нее со стороны холмов, это мы сделали, чтобы миновать Терентьевых [хозяева дома, который мы снимали осеню 1960 года].
Ночью был мороз, утром иней, туман. До девяти часов нельзя было выехать, ничего не было видно, хотя и видно было, что наверху солнце, и пароходы гудели предостерегающе внизу. Зато потом какой зацвёл день! Мы ехали вверх и вниз между золотых лесов, зелёных озимых по скатам, паутина сверкала, и всё летела, летела навстречу — эти длинные нити, упругие, толстые, так что мы головы невольно пригибали, когда что-то блестящее протягивалось вдруг перед глазами.
А в лесу, когда мы проехали по аллее / не той, кот. ведет вниз к роднику, а по той, по которой мы ходили за грибами/, вывернули в поле, съехали вниз — опять, как и тогда, сидели грибы и ждали нас. И так же шумели под ногами листья и проглядывалась внизу река, и звуки идущих катеров доносились оттуда. Мы обошли эти бесчисленные парал-лельные овражки, которые начинаются еще в поле и идут к реке, нашли много белых и хороших подберёзовиков. Было так тепло, что мы разделись, а я всё припоминал и говорил «вот там должны быть грибы» и шёл туда и там они были. И ещё, когда мы проходили под дубами, то так много было на земле, под листьями, желудей, что они хрустели у нас под ногами. И как это я забыл про этот слабый звук и не упомянул о нём в «Осени в дуб. Лесах»?
Вот так я пока и живу — ковыряюсь дома в словесах и езжу почти каждый день за грибами то туда, то сюда, всё по старым местам. И осень теперь в самой поре, в самом своем накале — раньше было много зелёного, позже начнёт «с печальным шумом обнажаться» — теперь ночами холодно, утром туманы, днём совсем тепло, и сколько это еще продержится, так и ждешь, вот-вот оборвётся, дожди пойдут, сырость и мрак, и станет пакостно.
Засим — прощай. Наверно скоро наведаюсь я в Москву, я тогда тебе позвоню может быть накануне. Как ты там?
[Подпись рукой] Юрий»
Печальное письмо, если не сказать горькое. Причем горечь не от злости на меня, а от осеннего печалования. Думаю, думаю и не могу отнести это письмо ни к одному году из наших пяти.
Я долго вспоминала, о какой машине идет речь. Мне, помнится, никто никаких машин не предлагал. И вдруг в памяти всплыл один фантастический для тех времен эпизод, который, кажется, имеет отношение к словам «ту, которую тебе предлагали». Об этом эпизоде я недавно слышала мимолетное упоминание с экрана телевизора, а он был мощный и симптоматичный. Вдруг прошел слух, что строится где-то на Украине завод дешевых малолитражных автомобилей. Слух был упорный, говорили о таком неслыханном счастье — дешевый автомобиль, и по всей Москве ходили отпечатанные типографским способом листовки с рисунком этого автомобиля. Об этой малолитражке я, наверное, и написала Юре в одном из писем.
Вспоминая свою жизнь, лучше узнаешь себя. В юности я отличалась сильной застенчивостью. В институте стеснялась делать на семинарах обязательные доклады, вместо них — писала сочинения. Так для семинара по английской истории написала про начало английского рабочего движения в конце XIX начала XX веков. До сих сохранились в памяти два первых рабочих лейбориста в английском парламенте, ничего не попишешь, таков ход истории. Фамилии преподавателя, интеллигентного ученого старика, не помню, но помню, что он жил на Вспольном переулке, куда я отнесла ему мою работу за день до экзамена, узнав в деканате его адрес. Это было на первом курсе, 1948 — 49 учебный год. Нашему поколению, конечно, повезло, у нас были замечательные преподаватели, носители дореволюционной культуры. За этот доклад он поставил мне пятерку по истории Англии без экзамена.
Застенчивость у меня проявилась еще в детские годы. Мой отец преподавал в военно-железнодорожной школе в Лосиноостровске, попросту говоря, в Лосинке. Сотрудникам школы дали несколько путевок в Артек для детей-первоклашек. И одна путевка досталась отцу. Детей было четверо, с нами поехала мама одной девочки. Путевки были в Верхний лагерь. Пионерский лагерь Артек делился тогда на три лагеря: Верхний, Нижний и Сууксу. Верхний был на горе, Нижний на море. Сууксу тоже на море, во дворце, где в огромной столовой на первом этаже одна стена вся зеркальная, отчего столовая казалась еще больше. Изначально было два детских лагеря — Верхний и Нижний. В Сууксу отдыхали ответственные партийные работники. Но однажды в лагерь приехал член правительства
В.М. Молотов, и артековцы спели ему песню «У Артека на носу приютился Сууксу, / Наш Артек, наш Артек, не забудем тебя век». Молотов расчувствовался, и правительство постановило отдать пионерам и дворец.
По приезде в лагерь, нас повели в приемное отделения, и я по дороге потерялась. Долго бродила между строений, спустилась вниз к морю. Кто-то обратил на меня внимание, взял за руку и отвел в группу малышей с путевками в Сууксу. Там я и осталась. Нам выдали матросские бушлатики и фланелевые лыжные костюмы. Дело было в конце декабря, и легкая одежда даже в Крыму не годилась. Наш отряд был девятый, председателем выбрали самую красивую девочку Тому, а меня, Муру (так меня тогда звали) Литвинову, назначили ее заместителем. Тут и определилась моя дальнейшая жизненная роль — быть всегда на втором месте. Тома заболела, отдавать рапорт на утренней линейке предстояло мне, и оказалась, что из-за застенчивости это мне не по силам. Площадка для линейки была прямо перед дворцом. Девять отрядов выстраивались вокруг мачты с флагом, который поднимался каждое утро, и старший пионер вожатый, стоя у мачты, принимал рапорты всех председателей отрядов. Надо было выйти из строя, подойти четким шагом к пионервожатому, отдать ему пионерский салют и сказать следующие слова «Товарищ старший пионервожатый, голосует девятый отряд. В отряде по списку числится двадцать человек, на линейке присутствует девятнадцать, одна больна. Отряд к работе готов, заместитель председателя отряда Мура Литвинова. Рапорт сдан». Тома всегда произносила слова звонко и без запинки. А я, хотя до сих пор помню их наизусть, стала запинаться, заикаться, старший пионервожатый смотрел на меня ласково и сочувственно, и, не дождавшись конца моего лепетанья, сказал «Рапорт принят», и я с позором побрела в строй. Пионервожатая нашего отряда после этого меня невзлюбила.
Но когда дело шло о важном мероприятии, которое лично меня не касалось, и было общественным мероприятием, мою застенчивость как рукой снимало, я умела выступить перед публикой, отстаивая правоту дела. Не помню, как случилось, что все заинтересованные в покупке дешевого автомобиля — несколько тысяч человек — собрались в один прекрасный день на огромном поле на окраине Москвы для обсуждения плана действий. (Это было уже позже того письма из Гагры). Весть об этом облетела столицу молнией. Мы встречались на этом поле не один раз, дисциплина была идеальная, милиция не вмешивалась. Был организована инициативная группа, в которую выбрали и меня. Наша цель — выяснить все подробности создания нового автомобиля и начать предварительную регистрацию очереди на его приобретение.
Трое из группы, в том числе я, отправились ходить по вышестоящим инстанциям: ЦК Партии на площади Ногина, в Центральный комитет профсоюзов (кажется, он не так назывался) на Ленинском проспекте, и в общесоюзное министерство, ведающее строительством автомобильных заводов. В них была совершенно разная трудовая атмосфера. Нашей целью было не только выяснить, действительно ли строится завод, но и довести до сведения важных начальников необходимость производства для народа общедоступной легковой машины. Начало шестидесятых, настроение боевое. Среди инициативной группы были влиятельные люди (один — полковник), и нам удалось получить пропуск в ЦК партии. В ЦК было чинно, никакой суеты, длинный, темноватый, пустой коридор, пропуски и паспорта проверены с любезной строгостью. Принял нас спокойный, внимательный человек, выслушал, подробно расспросил, сказал, что о строительстве проверит, согласен с нами, что народу нужны дешевые автомобили и посоветовал обратиться в ЦК профсоюзов и в министерство. С тем мы и ушли.
Совсем другая атмосфера царила в профсоюзном штабе. Полные солнечного света широкие коридоры, добрый привратник, который и смотреть-то не стал наши паспорта, пропуск туда не нужен. Выслушав, по какому делу мы пришли, он отправил нас в какую-то комнату на втором этаже. В коридорах тоже пусто, двери в некоторые кабинеты от-крыты, там сидят профсоюзные чиновники, читают книги, пьют чай. Делом явно не обременены. Нас принял в просторной светлой комнате приятного вида мужчина, обрадованный вторжением людей, разогнавших его скуку. Мы опять долго рассказывали, показали картинку автомобиля, назвали предполагаемую цену. Сумму, к сожалению, не помню, и то сказать, события полувековой давности. Он очень хвалил нашу инициативу, обещал, если понадобится, содействие. Мы, разумеется, понимали, что все это треп.
По-настоящему деловую атмосферу мы встретили в министерстве. Там по коридорам сновали серьезные люди с бумагами. В открытые двери кабинетов виделись с жаром беседующие сотрудники, с нужным нам человеком мы говорили почти что на ходу. Он остановился, сказал, что у него мало времени. А когда мы ему вкратце все изложили, опять показали плакат с автомобилем, он расхохотался. «Даже внешний вид раздобыли! Откуда?». Названную нами цену отверг. Сказал, что машина, действительно, задумана. Она будет дешевая, но не до такой степени. Хотя и доступная. Никаких сроков не сказал, и где будет делаться, не сказал тоже. Очередь создавать рано. Составленные нами списки не действительны. Но разговаривал с нами с интересом и уважительно. Дело в том, что мы, действительно, представляли собой хорошо отлаженную, самостийно возникшую организацию из нескольких тысяч людей. Тысячи были разделены на сотни, сотни на десятки, во главе каждой сотни — сотник, во главе десятки — десятский. Были составлены списки, у меня в архивах сохранились, кажется, написанные разными почерками листы с фамилиями. Я возглавляла тысячу, и у меня долго хранились все эти листы с тысячами имен и фамилий. Было принято решение, для функционирования инициативной группы (поездки, бумага и т.д.), собрать по рублю с каждого участника. Но деньги собрать, к счастью, не успели. В каком-то из этих трех учреждений, скорее все-го в министерстве, удивились, как это власти не обратили внимания на такое скопище народу. А если бы еще был сбор денег, уголовного дела инициативной группе было не миновать. Об этом мы не подумали — так силен был тогда воздух свободы. На этом эпопея с дешевым народным автомобилем закончилась.
Но вернемся в Марфино. Вошли в избу, я достала привезенную снедь — хлеб, чай, масло, колбасу, конфеты, коньяк. Из русской печки достали горячий чайник. Юра заварил чай. Мы были так рады друг другу, очутившись в четырех бревенчатых стенах, отделявших нас от всего света.
Широкие сени, слева большой крытый двор. Известное словосочетание «удобства во дворе» к этой усадьбе неприменимо. Удобств вообще нет — ни во дворе, ни в сенях. Это еще усиливало неповторимость марфинской жизни. Справа вход в избу, состоявшую из одной комнаты. По левую руку большая русская печь, под печью неглубокая выемка, где лежат ухваты и кочерга. Справа к ней примыкает широкое ложе с подушками, накрытое одеялом, дальше пустой промежуток, ограниченный стеной, противоположной входной двери. В ней в середине — окно, перед ним стол, который стоит не вплотную, между ним и окном старенькое кресло. За этим столом, спиной к окну, Юра стрекочет на машинке свои сочинения. В правой стене тоже окно, в углу под низким потолком висит на ремнях допотопный радиоприемник. А шагах в четырех от стола в сторону двери легкая сквозная перегородка из планок, которая отделяет кухонное пространство от «кабинета». Тут есть стол, где я готовлю и смотрю сквозь широкие щели, как Юра пишет. Он еще в Печорах сказал, что никогда не мог работать, когда кто-то есть в комнате, а со мной, оказалось, может.
Так мы и зажили в русской деревне на берегу Оки. Две недели, полные до краев счастья. Мне даже не верится, что жизнь эта длилась всего две недели, такие они были насыщенные.
В доме есть все для любви, работы и чтения. Нет только главного для поддержания жизни — запасов еды и отхожего места. Со вторым мы справлялись просто. Ходили каждый день в лес, и, разойдясь в разные стороны, отдавали дань природе — в чащобе. Если же погонит вечером, когда сидишь в доме, возьмешь саперную лопатку, идешь в огород, роешь ямку и оправляешься. В общем, с этой естественной надобностью особых затруднений не было.
Хуже было с едой. Рынка в деревне нет. Решено идти по домам, осень, урожай собран, наверняка кто-нибудь продаст нам картошки и овощей. Деревня маленькая, несколько домов. Постучались в один — никого нет, постучались в другой, вышла здоровая за сорок, справная женщина. Просим ее продать нам морковки, свеклы, картошки. И получаем отказ. Сейчас цены на овощи очень дешевые, продавать невы-годно, не то, что зимой, а по зимним ценам продавать стыдно. Так и не продала. Очень расстроенные, постучались в следующий дом. Замечу, что заборов в Марфине нет. Дом этот был очень большой. Вышла старуха лет под семьдесят, приглашает войти. Большая светлая горница, лавки особые — с подлокотниками и спинкой. Особый, недеревенский, дух, говорящий о былом достатке. Спрашиваем, ни на что не надеясь, не продает ли она овощей.
— Зачем продавать, — отвечает она, — я вам и так наберу. — И ведет нас во двор, к погребу. Это такая глубокая круглая яма в земле, сверху прикрытая дощатым сооружением, вроде двери. Открывает ее, берет Юрин рюкзак, спускается по лестнице вниз. И минут через пять вручает Юре его большой рюкзак, полный картошки, моркови, свеклы, лука. Спустилась еще за кочаном капусты. Мы — благодарить ее, предлагаем деньги. Не взяла.
— За что, — говорит, — деньги? У меня столько всего этого, что и не убавилось.
Мы потом с Юрой подумали, что людям свойственно делать добро. А тем более в такой глуши. Небось, старуха ляжет сегодня вечером спать, вспомнит свое доброе дело, и, сладко вздохнув, уснет. На чем я готовила, не помню, кажется, на керосинке. В лесу мы собирали валежник и топили печь. Юра научил меня тушить на сковородке в подсол-нечном масле овощи — нарежешь свеклу, морковку, капусту, картошку, лук, и тушишь все это часа полтора. Вкусно, пальчики оближешь. Ходила я в соседнее село Трубецкое. Там была маленькая сельская лавка, в ней, кроме водки самого низшего качества — «сучка», который, как поговаривали, гнали из опилок, — были только макароны, подсол-нечное масло, рыбные консервы с крупой и килька в томате, ну и, конечно, сахар, соль и спички. В день получки вокруг лавки (она стояла посреди небольшой площади, поросшей зеленой травкой) веером лежат вусмерть напившиеся мужики. Я туда ходила за сахаром и маслом. Дорога идет полями, одни ярко зеленеют, другие, под паром, уже присыпаны первым снежком и похожи на гречневую кашу с молоком.
В первые дни мы собирали в лесу грибы, в основном волнушки, я их солила по рецепту Юриной мамы. Юра захватил с собой гвоздику; чеснок и укроп дала добрая марфинская старуха, которую потом, прочитав в Тарусе «Матренин двор» Солженицына (рассказ тогда назывался «Не стоит село без праведника»), я отнесла к солженицынским праведницам. Скоро у Юры кончилась бумага. Достать ее можно только в Тарусе. И я решила отправиться туда на попутках. Вышла из деревни по большаку, ведущему на шоссе. Иду, слякоть ужасная, я в резиновых сапогах, чавкаю по лужам, особенно глубокие обхожу. И тут меня нагоняет грузовичок, на нем везут в больших бидонах молоко с фермы. Останавливается рядом со мной, шофер спрашивает, куда это я иду. Отвечаю, в Тарусу. И они туда же. Втащили меня в кузов. И покатили по выбоинам, под звяканье бидонов. Была уже глубокая осень. Ядреная, бодрящая свежесть. На фоне темно сизого низкого неба тонкие белые ветви березы походят на нервы человека, как их рисуют в анатомических атласах. Мне тогда много приходилось ездить осенью, и это сравнение всегда приходило в голову. Купила в Тарусе бумаги, колбасу, сыр, конфеты и тем же днем вернулась, опять на попутках. Опять шла по слякоти и поняла, почему сапоги — русская национальная обувь: их шить дешевле, чем строить дороги.
Юра каждое утро работал, я читала Томаса Гарди, которого предстояло переводить для Госиздата. Работал он до обеда, после обеда прогулка в лес, последние дни грибы встречались только замерзшие. Теперь-то я знаю, что и из них можно суп варить, а тогда мы ногами сбивали звонкие ледяные подберезовики, и одно блюдо из нашего рациона выпало. Юра тут написал «Красную стрелу» и почти закончил «Северный дневник». Я тоже пыталась что-то писать. Юра это мое стремление не одобрил, сказал, в семье двух писателей быть не может. А когда мне в голову приходил сюжет (один был из жизни советских литературоведов), он говорил: не пиши, испортишь, я это сам напишу. Но не написал. У него было тогда много жизненного материала для своих сюжетов.
Грибы грибами, но без мяса-то скучно. И опять мы отправились в деревню, на этот раз за курицей. Нашлась хозяйка, которая продала нам живую курицу, но наотрез отказалась порешить ее. Принесли курицу в избу, она стала летать по дому, потом забилась под печку и не выходит. Юра говорит: рубить ей голову будешь ты. Я категорически сказала — нет. И он понял, что я буду твердо на этом стоять. Мне до сих пор больно вспоминать эту историю про курицу. Юра хотел куриного супу, мяса. Для этого надо было убить. Как мы гонялись по избе за этой беднягой, понявшей, что пришел ее смертный час! Юра тоже на всю жизнь запомнил это печальное происшествие. Ощипали мы ее, сварили, она оказалась старая, тощая и жесткая. И суп был почему-то невкусный. Так нам и надо.
В Трубецкое я ходила и за водкой. Она там была отменно плохая. А однажды и ее не оказалось. Мужики мне сказали, надо плыть в Егнышевку, там водка всегда есть. Вернулась с пустыми руками домой, говорю Юре, надо плыть в Егнышевку. Егнышевка прямо напротив Марфина, на нашем берегу притулилась лодка, на которой из надобности можно сплавать туда и обратно. Ока здесь не очень широкая и течение не сильное. Е1одошли к лодке.
— Ну что, — говорит Юра, — поплывешь? (Не надо забывать, что Юра заикался, когда приходилось о чем-то просить, и старался избегать таких ситуаций).
— Поплыву, — смело отвечаю я, хотя не гребла никогда в жизни. Подтащили лодку к воде, я села в нее, Юра спихнул ее в воду. И я погребла, Юра потом со смехом рассказывал, каким кривым был мой путь по воде на тот берег, в одном месте на середине меня так развернуло, что чуть не поплыла обратно. Берег в Егнышевке пологий. Подхожу к магазину, на двери пудовый замок. Какой-то мужик подошел, тоже за выпивкой. Я ему говорю, что я из Марфина, приплыла на лодке и мне обязательно нужна продавщица. Он показал ее дом. Продавщица легко согласилась прервать свой обед, пошла со мной в магазин и продала две бутылки. Окрыленная успехом я благополучно доплыла до своего берега.
Я вот сейчас пишу это и думаю, почему я тогда не воспротивилась Юриным возлияниям. Он пил немного, перед обедом, и пьяным никогда не был. Но уже тогда это все же могло походить на пристрастие. Еще в Голицыне он мне рассказывал, что они как-то странствовали на Севере с поэтом Юрием Коринцом, и Коринец приучил его к водочке перед обедом. Но я никогда еще не сталкивалась с алкоголиками, с алкоголизмом, знала, что писатели много пьют, это у них в обычае. И не было страха, что эти рюмки — угроза Юриному таланту и жизни. А из-за любви я готова была исполнить любую его просьбу, лишь бы его порадовать.
В доме оказалось несколько хороших книг. И среди них «Год на Севере» русского бытописателя Максимова. Во второй половине XIX века был издан царский указ объездить российские земли и описать их быт, нравы, обычаи, занятия, фольклор. Максимов поехал на Север, прожил там год и выпустил замечательную книгу, в которой прекрасным русским языком описаны жизнь, труд и охота поморов. Юра с восторгом читал из нее вслух целые страницы. И решил взять эту книгу в Москву. Хозяева тоже ей дорожили. И пришлось с ней расстаться. Я отвезла ее, объяснив, что мы взяли книгу, чтобы Юра мог многое из нее выписать. Он хотел вставить эти куски в Северный дневник.
Прошло много лет. Мы с мужем едем в центр купить мне туфли. Мои прохудились, и моя бабушка, Мария Филипповна, дала мне на новые тридцать рублей. Зашли в переулок, где МХАТ, а там букинистический магазин. Вижу на полке маленькие зеленые книжки — полное собрание Максимова.
— Сколько? — спрашиваю.
— Тридцать рублей.
— Покупаю.
— Мариша, а как же обувь? — беспокоится муж.
Продавщица выкладывает томики на прилавок. Сбоку подходит покупатель.
— Максимов? Сколько стоит?
— Уже куплено, — отвечаю и обеими руками прикрываю богатство. Это было, действительно, бесценное приобретение.
Юра был счастлив жизнью в деревне, приливом творческих сил, и тем, что рядом любимая женщина. Эту жизнь — наши пять лет — я сравниваю теперь с морем. Она была то тихая, умиротворенная, то бурная, штормит, а потом успокоится и опять ласковая. И мы в ней всегда вместе.
Мне было хорошо, радостно. Юре тоже. Дай Бог всем испытать хоть раз в жизни подобную счастливую общность души и тела. Именно Марфино и родило рассказ «Осень в дубовых лесах».
Этот рассказ начинается так:
«Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось у меня в ту осень». Советую, читая эту часть воспоминаний, взять этот, один из лучших, рассказ и прочитать. В нем поэтически описано всё, что окружало нас в тот далекий октябрь.
У рассказа есть своя история. Через полгода, в середине мая я получила от Юры письмо из Крыма, из поселка Планерное, написанное от руки:
«Дорогая Маринка! Ты небось сейчас в Звенигороде? [У Ольги Петровны в Звенигороде на той улице, где стояла липа Чехова, было полдома с большим садом. В нем была комнатка для гостей, и я там часто живала. Но в то лето я сняла по соседству две комнаты с верандой, надеясь, что Юра будет туда наезжать]. Завидую, ибо сейчас у вас там (вернее у нас) майские жуки, березы, зори, прибывающее тепло и всякая прочая штуковина, и всего этого я лишен поневоле.
Это первое. Второе — ура! — только что разогнул спину, кончил рассказ 22 стр. называется «Осень в дубовых лесах» про долгожданную встречу некоего мужика с некоей бабой. Заглянул я на одну, на другую страницу и все мне показалось омерзительным и фальшивым. Ну да авось это просто авторское... Завтра посылаю все это в Знамя и в Калужский сборник [«Тарусские страницы»])
У меня вот только что родилась гениальная идея (серьезно мне надо было быть управдомом) По приезде в Москву [«в Москву» вставлено сверху] и при отъезде в Тарусу, я еду не через Серпухов, а через Калугу. Там я иду в Калужск. отд. Союза писателей, становлюсь на колени и бью челом насчет того чтобы они вошли в Калужское земство чтобы оно мне разрешило построиться в Марфино Ух! А оттуда я лечу самолетом и сажусь напротив Тарусы на берегу Поленова.
Вот так. А ты будешь жить в своем Звенигороде и чахнуть. За Звенигород меня не агитируй, я его знаю и бывал там в Поречье и в Дунине у В.Д. Пришвиной. Перед Окой и Марфиным это чепуха (прошу прощения). А смотри, что я написал в своем рассказе — плохо это или хорошо? — «Телята с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задрав хвосты и расставив курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи».
Здесь я просижу еще числа до 22-3, ответить ты не успеешь, а если очень захочешь, то пошли письмо-телеграмму из 60 слов по след. Адресу Крым, Судакский р-н Планерское Дачная 22 для Юрия Казакова.
В Москве я буду числа 25-26 ты тоже постарайся быть, вернее лучше позвони сперва из Звенигорода спроси меня или маму и если я приеду тогда тоже приезжай.
Привет!
Послала ли ты два №№ Знамени Мих. Мих. в Печоры?
Твой Юрий
13 мая 61. вечер.»
Опубликованный в журнале «Знамя» рассказ «Осень в дубовых лесах» отличается от рассказа, вышедшего в сборнике рассказов 1962 года. У меня сохранилось письмо Георгия Семенова, посланное в Тарусу 29 мая 1962 года (штемпель на конверте). Вот что он пишет (на машинке):
«Юра!
Никак я, понимаешь, не мог связаться с Бочаровым, а потом, когда попросил Мулю Дмитриева это сделать и когда он поговорил с Бочаровым, с Толей, как он его называл, потому что Бочаров его хороший приятель, так вот, когда я узнал от Мули каковы дела с твоим рассказом, мне стало очень досадно и я никак не мог взяться за перо: все медлил и медлил. Прости меня пожалуйста.
ОНИ, т.е. Бочаров и, вероятно, редактор сборника, взяли для издания «Ни стуку, ни трюку», а потом НЕКТО запротестовал и, как я понял, рассказ не вошел в сборник. Я тогда сказал Муле, чтобы он передал «Толе» твои слова об «Осени в дубовых лесах». Он это сделал, и, тот, кажется, должен предложить рассказ редактору.
Вот такие, понимаешь ли, смутные дела на этом фронте. По-моему все это мерзко. И хочется после всего этого с кем-нибудь поругаться и обозвать кого-нибудь заслуженным словечком.
А я ездил в Новгородскую область охотиться. Приехал домой с тремя кряковыми селезнями и вальдшнепом. Приехал радостный, а тут еще твое письмо меня дожидается. Я очень люблю твои письма, Юрка! А сам писать ленюсь. [...]
Вот и все.
Крепко жму руку.
Г. Семенов [подпись ручкой и дальше приписка от руки] Юра, пришлось распечатывать конверт. Вчера узнал, что твой рассказ «Осень в дубовых лесах» вошел в сборник. Все отлично! А мой «Тростниковые заводи» выкинули, черти! Ну да ладно».
Письмо шло в Тарусу три дня, получено там 31 мая 1962 года.
Рассказ в сборнике отличается вот почему. Лето, 1962-й год. Мы в доме на Арбате, телефонный звонок. Редактор толстого тома «Рассказ 1962 года» говорит Юре, что «Осень в дубовых лесах» прекрасный рассказ, но короткий, Юра немного за него получит, у него есть еще возможность дописать несколько страниц. Юра и прибавил тот кусок, где автор и поморка бродят по Москве ночью в поисках пристанища. Помню, как он очень быстро отстучал на машинке вставку, и рассказ удлинился страниц на пять. Этот рассказ — разительный пример того, как писатель сплетает события из жизни с выдумкой. Не зря Юра писал: «Произведения всех авторов автобиографичны — автобиографичны в том смысле, что все, чем их произведения наполнены, — события, детали, пейзажи, вечера, сумерки, рассветы и т.д., — когда-то происходило в жизни самого автора. Не в той последовательности, в какой описано в рассказе или в романе, но автор это должен пережить сам. Каждый рассказ, который мною написан, имеет свою историю, свое начало и конец и свою судьбу» («Опыт, наблюдение, тон» / «Вопросы литературы», 1968, № 9 /, цитирую по книге «Две ночи», Москва «Современник», 1986, с. 302).
У меня хранится рисунок художника (не помню его имя) к этому рассказу: Юра стоит на берегу с фонарем в руке. Долго думала, написать ли, что однажды сказал Юра, давая интервью газете. Не помню, какая это газета, не помню, кто лет семь-восемь назад дал мне ее. Она где- то затерялась среди бумаг. Корреспондент спросил про «Осень в дубовых лесах»: была ли та женщина у него в жизни. Он коротко ответил: «Да, я ее любил всю жизнь». Понимаю, этому могут не поверить. Но даю слово чести, такое интервью было, и Юра эти слова сказал. Почему эти слова так и канули в небытие? Ведь это ключ к одной из загадок его жизни. Надо было искать эту женщину. Я прочитала эту газетную статью в Зарайске, мне уже было за семьдесят. И я снова жгуче ощутила свою вину, что не смогла, не хватило сил, характера, да и помощников, спасти Юрия Павловича от пагубной болезни.
Обратно мы ехали, поймав на шоссе машину. Потом электричка, метро. Таруса, Серпухов и снова Москва.













